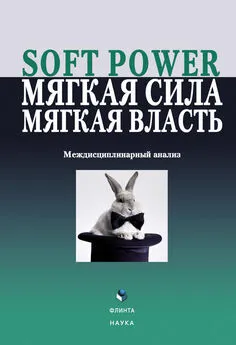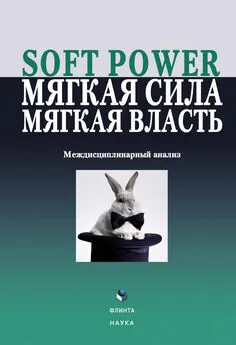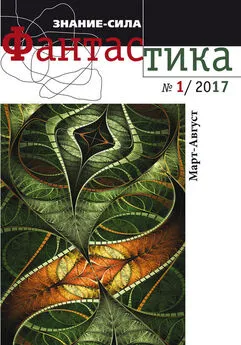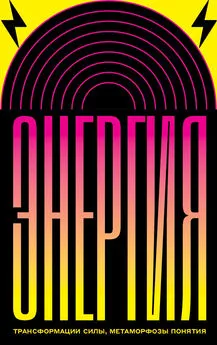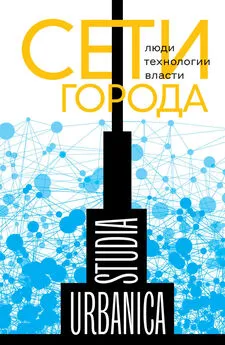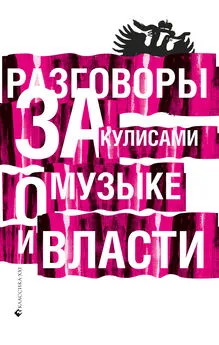Array Коллектив авторов - Soft power, мягкая сила, мягкая власть. Междисциплинарный анализ
- Название:Soft power, мягкая сила, мягкая власть. Междисциплинарный анализ
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Флинта
- Год:2015
- Город:Москва
- ISBN:978-5-9765-2086-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Array Коллектив авторов - Soft power, мягкая сила, мягкая власть. Междисциплинарный анализ краткое содержание
Книга представляет интерес не только для исследователей, преподавателей и студентов целого ряда общественных дисциплин, но и для практиков-политконсультантов, специалистов по PR, журналистов, сотрудников госструктур.
2-е издание, стереотипное.
Soft power, мягкая сила, мягкая власть. Междисциплинарный анализ - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Средства массовой информации обладают «инструментом социальной власти» – собственным языком (Р. М. Блакар), воздействующим на психологическое состояние населения психолингвистическими и психосемантическими средствами. При обработке слова в процессе информационного обмена проявляются, как правило, три компонента внутреннего состояния: референциальная функция, ассоциативный компонент, эмотивный аспект. Обычно они действуют одновременно, влияя друг на друга, создавая тем самым у получателя единый образ. Восприятие и понимание, рождающиеся у получателя, зависят от того, как пользуется языковым элементом отправитель (в нашем случае журналист). Язык более или менее явно отражает господствующую структуру социально-политической власти и неизбежно принимает некоторую точку зрения, т. е. чью-либо сторону [2, с. 111]. Заставить аудиторию или население принять те обозначения, которые устанавливают СМИ или иной коммуникатор – политик, некая субкультурная группа или агент «мягкой силы», – это весьма важный акт социальной власти.
Единицей анализа установлен смыслофакт как понятие, наиболее полно отражающее процесс осознания, понимания, сообщение любой информационной природы, т. е. извлечение смысла из явлений реальной действительности (фактов), удовлетворяющее условию, тем индивидуальным связям слова, которые соответствуют психическим состояниям человека в данный момент. Семантическое поле [125]настоящего, создаваемое средствами массовой информации, имеет определенную временную глубину, включающую «психологическое прошлое», «психологическое настоящее» и «психологическое будущее». Именно здесь посредством слов определенного содержания и эмоциональной окраски модулируются психологические состояния коммуникации и формируются адекватные отношения к тем, на кого направлена скрытая интенция языка СМИ. При этом достигается двойной эффект воздействия: прямой и опосредованный, направленный на массовое сознание аудитории, что, собственно, и является целью воздействующей коммуникации. Примером может служить исследование «языка вражды», осуществленное автором на большом эмпирическом материале с помощью модели «триады враждебности» Кэррола Е. Изарда [3].
Известно, что в процессе онтогенеза вместе со значением слова меняется система психологических процессов, которая стоит за словом. Если на начальных этапах его сопровождает аффект, то на следующем формируются наглядные представления памяти, а на последнем этапе оно основано на сложных системах вербально-логических отношений субъекта с реальностью. Этот механизм используется в технологиях «мягкой силы», но он требует определенного времени, что, с другой стороны, позволяет организовать систему защиты от негативных трансформаций. Цитируя академика Ю. Степанова, считавшего язык «домом бытия духа и пространством мысли», член-корреспондент РАН Ю. Л. Воротников указывает на актуальную задачу «…если язык обустроен, то и бытие наше протекает в благоустроенном доме. Поэтому очень важно, чтобы государство уделяло большое внимание своему государственному языку. Поддержка русского языка… напрямую связана с… вопросами национальной безопасности» [4].
Таким образом, СМИ – это не утилитарные проводники власти, но ее носители, обладатели властных качеств и собственного властного – информационного – ресурса. Благодаря средствам массовой информации, которые обслуживают не только социально-политические, административные, но и PR-коммуникации власти, государственное регулирование сохраняет необходимую вертикаль, поддерживающую иерархичность системы.
Эта зависимость не единственное основание, позволяющее отнести массмедийную систему к критически важным структурам, где критичность понимается как предельная степень защищенности объекта от внутренних и внешних воздействий. По мере повышения информационной сложности ее организации, к которой причастны и СМИ, границы между политической системой и общественной средой размываются, система приобретает свойства поля. Устойчивость сохраняется, во-первых, за счет постоянного изменения параметров порядка (например, языка) в процессе динамической социальной самоорганизации и, во-вторых, в результате внешней гармонизации социальных форм движения относительно политических норм и их вариаций (вплоть до девиаций) по поводу власти.
Таким образом описывается состояние общественно-политических или общественно-государственных отношений в предкризисных и кризисных ситуациях, вызванных эскалацией хаоса вследствие применения методов «мягкой силы». Информационное пространство напряжено до разрыва, а коммуникативные взаимодействия органов власти, СМИ и общества происходят в так называемом перемешивающемся, критическом слое, на кромке, разделяющей признаваемый большинством населения порядок и аксиологическую анархию. Понятно, что это – театр активных действий адептов «цветных революций». Все элементы политической системы становятся в разной степени неустойчивыми, но СМИ – наиболее подвижный и зависимый от деструктивной социально-политической динамики актор.
В этих условиях интегральные параметры порядка устанавливаются коммуникативным кодом социальных отношений, имеющих смысловое содержание, – отношение к государству, отечеству, патриотизм, интернационализм и т. д. Информационная устойчивость политической системы достигается благодаря балансу системных функций коллективного общественного сознания участников политических процессов, восстановлению информационной и ментальной идентичности народа. Дисбаланс закономерно ведет к нарушению динамики информационной устойчивости и гибели или перерождению системы.
Оценивая возможности внешней регуляции политических коммуникаций, Б. Крауз-Мозер отмечает, что «это требует от исследователя более понимания, нежели толкования в аналитически-эмпирическом смысле, т. е. через указания на какие-то закономерности в возникновении явлений. Следовательно, понять какой-то поступок – это всего лишь открыть его смысл, т. е. тот, который ему придает действующий человек» [5, с. 72].
Инструменты для «открытия смысла» политическая коммуникативистика заимствует в субъектно-деятельностных и речевых парадигмах и синтезирует их под задачи обеспечения баланса (консенсуса) в политических коммуникациях. К примеру, лингвисты активно обращаются к арсеналу психологов, выработавших не только нормативные, но и отклоняющиеся модели коммуникативно-речевого поведения.
Известны различные модели обнаружения смысла, разработанные в семантической теории информации (Ю. Шрейдер), семантической теории поля (В. Налимов, В. Лесков, Д. Бом, Ф. Капра, Дж. Чу), психосемантических теориях сознания (Л. Выготский, А. Леонтьев, Д. Леонтьев), включающих теорию субъективной семантики (В. Аллахвердов, Ю. Андреев, Е. Артемьева, В. Серкин, А. Шмелев) и др. Таким образом наращивается аналитический потенциал, уже содержащий набор методов и приемов политического дискурс-анализа, ивент-, интент-, контент-анализа и др.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: