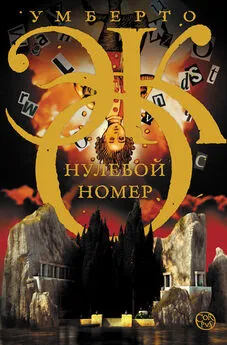Умберто Эко - Сказать почти то же самое. Опыты о переводе
- Название:Сказать почти то же самое. Опыты о переводе
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:АСТ : CORPUS
- Год:2015
- Город:Москва
- ISBN:978-5-17-094482-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Умберто Эко - Сказать почти то же самое. Опыты о переводе краткое содержание
Сказать почти то же самое. Опыты о переводе - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Нечто совершенно противоположное произошло с переводчицей на русский язык Еленой Костюкович. Мы подумали, что американский читатель, даже не изучавший латыни, все же знает, что речь идет о языке средневекового церковного мира; кроме того, прочитав выражение Depentagono Salomonis [154] **, он сможет опознать нечто похожее на Пентагон и Соломона. Но русскому читателю эти латинские фразы и заглавия, транслитерированные кириллицей, не скажут ровным счетом ничего – еще и потому, что для русского читателя латынь не связывается ни со Средневековьем, ни с церковной средой. Поэтому переводчица предложила вместо латинского использовать церковнославянский, язык средневековой Православной Церкви. Благодаря этому читатель мог испытать то же чувство временной удаленности, проникнуться той же атмосферой религиозности, понимая при этом (по крайней мере, смутно), о чем идет речь.
Таким образом, Уивер модернизировал, чтобы «одомашнить», а Костюкович «одомашнивала», чтобы архаизировать [155].
Эта проблема существует не только при переводе с одного языка на другой, но и при исполнении музыкальных произведений [156]. Мне хотелось бы упомянуть соображения Маркони (Marconi 2000, который, впрочем, отсылает ко всей литературе по этому вопросу) о том, какие исполнения того или иного отрывка из классического произведения следует называть «аутентичными». В принципе аутентичным считается исполнение партитуры, воспроизводящее не только звуки, но также тембры и длительности, которые можно было услышать при первом исполнении. Отсюда – «филологические» исполнения музыки Возрождения на инструментах той эпохи; отсюда стремление избежать того, чтобы отрывки, написанные для клавесина, исполнялись на фортепиано, а отрывки для фортепиано – на современном концертном рояле.
Однако представляется, что «филологическое» исполнение может не соблюсти намерения автора (или текста) потому, что оно не оказывает на нынешнего слушателя того же самого воздействия, которое производило на современника автора.
Возьмем некий отрывок со сложной полифонической структурой, написанный для клавесина. Говорят, слушатели XVIII в., в отличие от нас, способны были уловить все линии полифонической ткани. Отсюда решение некоторых исполнителей: использовать и современные инструменты, зачастую особым образом приспособленные, именно для того, чтобы довести этот эффект до восприятия современного слушателя. Считается, что, хотя при этом используются технические решения, которые не были известны композитору, слушатели оказываются в идеальных для слушания условиях.
Любопытно, что в таких случаях очень нелегко сказать, что́ перед нами: архаизация или модернизация; делается ли все возможное для того, чтобы ввести слушателя в атмосферу текста и культуры оригинала, или же стараются скорее ради того, чтобы эта культура стала приемлема и понятна нынешним адресатам. А из этого явствует, что в континууме возможных решений слишком строгие дихотомии между переводами, ориентированными на цель / на источник, также нужно снять, дабы образовалось некое множество решений, о которых нужно всякий раз договариваться.
А теперь – один трагически забавный пример неудавшейся попытки модернизировать и «одомашнить» в одно и то же время. Речь идет о первом переводе одной из глав моей книги «В поисках совершенного языка» (Есо 1984b; к счастью, перевод был вовремя исправлен).
В моем тексте говорилось о «Великой науке» (Ars Magna) Раймунда Луллия {♦ 103}(тема, несомненно, сложная) и излагался ряд использованных Луллием силлогизмов на теологические темы. В их числе был такой: «Все, что восхваляется величием, является великим, – но добро восхваляется величием – значит, добро является великим».
Если вспомнить о том, что я говорил в главе 4, переводчик должен всячески постараться овладеть Молярным Содержанием, находящимся в распоряжении автора, то есть достаточно широкими энциклопедическими познаниями. Но в данном случае переводчик, видимо, подумал, что рассуждение Луллия слишком абстрактно и нужно, так сказать, пойти навстречу читателю. Поэтому он перевел так: all cats are mammals, Suzy is a cat, therefore Suzy is a mammal («все кошки – млекопитающие; Сьюзи – кошка; следовательно, Сьюзи – млекопитающее»).
Что это не буквальный перевод – вполне очевидно. Но он не сохраняет и референции оригинала. Сказать, что некий исторический персонаж утверждал: «все, что восхваляется величием, является великим» – совсем не то же самое, что вложить ему в уста некие слова о кошках (кроме того, средневековый каталанец, никогда не бывавший в англоязычных странах, никогда не назвал бы кошку «Сьюзи»). Не соблюдать референции оригинального текста в случае исторического труда – совсем не то же самое, что сказать, будто в некоем вымышленном повествовательном мире Диоталлеви увидел не изгородь, а «возвышенное, ровное пространство». Что увидел Диоталлеви, это зависит от соглашения, заключенного между автором и переводчиком, которые не обязаны держать перед кем-либо отчет в том, как именно они «обставили» возможный мир художественного произведения, – если внесенная модификация не меняет глубинного смысла повествования. Напротив, говорить, будто Луллий сказал что-то такое, чего он не говорил, – исторически ложно.
Наконец, колоссальное педагогическое старание переводчика предало и глубинный смысл всего моего рассуждения о Луллии. Оно не сохранило верности подразумеваемому обязательству юридически уважать намерения автора, поскольку одно дело – сказать, что Луллий разрабатывал систему силлогизмов, чтобы делать верные утверждения о Боге, и совсем другое – сказать, будто он пустил в ход всю свою «Великую науку», чтобы делать верные утверждения о кошках.
Можно было бы просто сделать вывод, что у этого переводчика были странные представления о своих обязанностях и он переборщил, стараясь ради удобства современного англоязычного читателя. Однако эта ошибка возникла из-за того, что не была осуществлена интерпретация глубинного смысла текста. В противном случае переводчик понял бы, что оригинальный текст всеми силами старался ввести читателя в мир мысли Раймунда Луллия и просьба о добровольном согласии на это в любом случае должна была остаться в силе.
7.8. Еще о переговорах
Шлейермахер (Schleiermacher 1813, ит. пер.: 153) говорил: «Либо переводчик делает все возможное, чтобы оставить в покое писателя, и движет ему навстречу читателя, либо он делает все возможное, чтобы оставить в покое читателя, и движет ему навстречу писателя. Эти два пути настолько отличны друг от друга, что, встав на один из них, нужно пройти его до конца со всей возможной строгостью. От попытки пройти оба пути сразу можно ожидать лишь самых сомнительных результатов с риском потерять как писателя, так и читателя». Повторяю, что столь строгий критерий годится лишь для текстов, удаленных от нас в силу своей древности или абсолютной культурной несхожести. Конечно, если в переводе Библии предпочтение было отдано слову «дым», а не «суета», «тщета», то «Бог Саваоф» нельзя будет перевести как «Бог воинств». Но для современных текстов этот критерий должен быть более гибким. Выбор ориентации – на исток либо на адресат – остается в этих случаях критерием, подлежащим обсуждению от фразы к фразе.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: