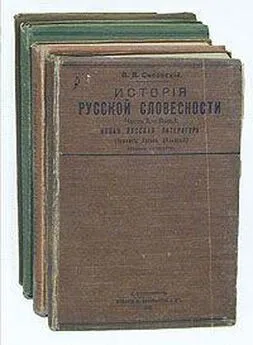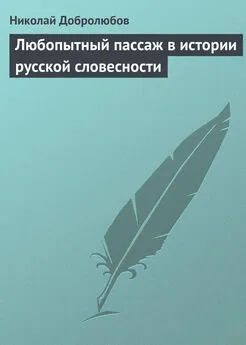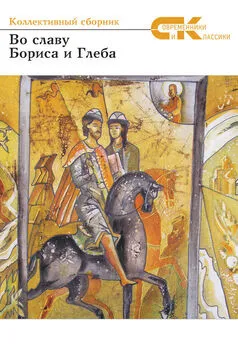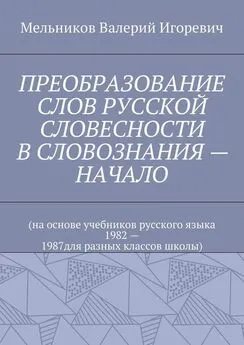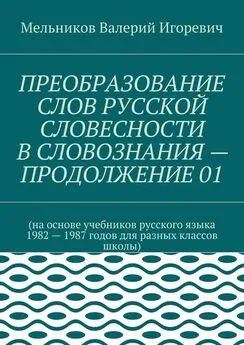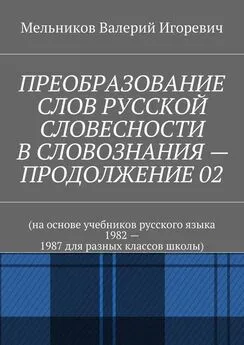Жан-Филипп Жаккар - Литература как таковая. От Набокова к Пушкину: Избранные работы о русской словесности
- Название:Литература как таковая. От Набокова к Пушкину: Избранные работы о русской словесности
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Новое литературное обозрение
- Год:2011
- Город:Москва
- ISBN:978-5-86793-925-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Жан-Филипп Жаккар - Литература как таковая. От Набокова к Пушкину: Избранные работы о русской словесности краткое содержание
Литература как таковая. От Набокова к Пушкину: Избранные работы о русской словесности - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Можно сказать, что Толстой, стремясь изгнать из литературы такие фундаментальные принципы, как «занимательность» или «запутанная завязка», подписывает ей смертный приговор, поскольку, как писал Шкловский (хоть и в форме гипотезы), «ост-ранение есть почти везде, где есть образ» [67], стало быть — прием. И действительно, остранить — это отстраниться, установить дистанцию, и эта дистанция присутствует во всех приемах: литература устанавливает ее, чтобы задаться вопросом о своей собственной природе.
Примеры, которые мы привели, позволяют сказать: трактат «Что такое искусство?» в какой-то степени являет собой поединок Толстого с Толстым! И его поздние произведения в чем-то сродни беременности его жены — по Москве ползли слухи, что ее начало (то бишь грех) восходило ко времени написания «Крейцеровой сонаты».
Набоков очень точно подметил это главное противоречие у Толстого, который «твердо решил, что если когда-нибудь и возьмется за перо после великих грехов своих зрелых лет, „Войны и мира“ и „Анны Карениной“, то будет писать лишь простодушные рассказы для народа, благочестивые поучительные истории для детей, назидательные сказки и тому подобное» [68]. Набоков отмечает в «Смерти Ивана Ильича» «не вполне чистосердечные попытки такого рода», но, по его словам, «в целом побеждает художник». А потом добавляет: «Этот рассказ — самое яркое, самое совершенное и самое сложное произведение Толстого» [69]. По сути, простота, к которой стремится Толстой, противоположна самой идее искусства, и, повторяя вслед за Набоковым, «это вздор, чушь»:
Всякий великий художник сложен. Прост «Сэтердей ивнинг пост». Прост журналистский штамп. Прост «Эптон Льюис». Просты пищеварение и говорение, особенно сквернословие. Но Толстой и Мелвилл совсем не просты [70].
Толстой совершенно не справился с миссией, которую сам на себя возложил, а Набоков, восхваляя его стиль, безжалостно констатирует, что «Смерть Ивана Ильича» «предвещает русский модернизм» [71].
Важно еще подчеркнуть утопическую составляющую размышлений Толстого. Ведь произведению искусства, каким его видит Толстой, должны быть не только присущи «цельность» и «органичность», мало того, чтобы его «форма и содержание составляли одно неразрывное целое» [72]. Оно должно быть местом вселенской гармонии, единения всех людей в великом экуменическом союзе: «Содержанием искусства будущего будут только чувства, влекущие людей к единению или в настоящем соединяющие их; форма же искусства будет такая, которая была бы доступна всем людям» [73].
Систематическое смешение эстетики и морали вписывает Толстого в традицию русской утопии, и важно подчеркнуть, что это касается не только его искусства, но и жизни. Толстой намеревался создать в парадигме морали и христианских взглядов свой утопический топос искусства, в котором искренность была бы гарантом всеобщего счастья и каждый человек мгновенно понимал бы написанное. Но к несчастью, понимать в нем было бы особенно нечего.
В морализме, который пронизывает эстетические взгляды Толстого, таится серьезная угроза. А. Жуффруа очертил ее в своем послесловии к французскому изданию Толстого, где он называет писателя «предвестником» А. А. Жданова, доказывая эту точку зрения тем, что оба они задаются вопросом: кому и чему может служить искусство [74]. Он подчеркивает опасность идеи, что нужно осудить произведение, которое нам не понятно, поскольку народ его тем более не поймет (так Толстому были непонятны Бодлер, Верлен, Вагнер, Малларме, Метерлинк, Ибсен и многие другие авторы, которых он называет «развращенными паразитами»). Жуффруа слышит здесь те же нотки, что в ждановском лозунге «Литература — дело народа!». Не заходя так далеко, как Жуффруа, мы можем сказать, что угроза тоталитаризма кроется в теориях Толстого, как и в любых утопических построениях.
Заметим, между прочим, что в 1920-х годах журнал «На посту» в публикациях, пропагандирующих пролетарское искусство, базирует свою идеологическую кампанию на двух столпах: «искренности» и «простоте». Добавим сюда, что эстетические концепции постфутуристов в том виде, как их определит ЛЕФ (Левый фронт искусств), и особенно «Новый ЛЕФ», в некотором смысле созвучны утверждениям Золя и Толстого. Но к счастью, последнему не удалось осуществить свои намерения. У него обнаружился могучий противник — он сам.
Эти наблюдения показывают, что подобный дискурс «искренности», выстроенный вокруг понятия «реализм» (все еще довольно туманного), рвется вытеснить главный предмет, который литература должна в точности назвать — а именно ее саму.
Если довести этот подход до логического конца, мы просто-напросто выйдем за рамки литературы (ведь литературное произведение, которое не называет самое себя, сводится к простому отчету о событиях). Однако, как мы покажем дальше, в противоположном подходе заключена такая же опасность.
Публикация в 1913 году сборника «Помада» Крученых ознаменовала важный этап в процессе ликвидации той составляющей произведения искусства, которую мы назвали «первым означаемым». О его стихотворении «Дыр бул щыл», ставшем эмблемой кубофутуризма, в предисловии было сказано, что это «стихотворение из слов, не имеющих определенного значения» [75]. А значение имеет прямое отношение к первому означаемому. Футуристы называли «заумью» (а в живописи ей соответствует супрематизм Малевича) поэзию, освобожденную от всякой «нарративности» в широком смысле этого слова, — то есть текст, который не подчиняется требованиям горизонтального синтаксиса, и слова, из которых он состоит, не должны непременно вступать между собой в фиксированные связи. Таким образом они подпадают под определение «слова как такового» (из первых футуристских манифестов). Хлебников называл это же «самовитым словом». Все авангардные течения доводят эту идею до логического конца, в результате, как предел абстракции, возникает «беспредметность», или, как позже обозначит ее Туфанов, «без образность». В результате единственная ощутимая реальность в абстрактной поэзии, вроде стихотворения Крученых, единственная названная в них вещь — это само стихотворение. Если пользоваться устаревшими категориями, содержание изгнано, осталась одна лишь форма, та самая ложь, которую почитает Оскар Уайльд и на которую обрушивается автор «Войны и мира».
Можно сказать, что, придумав фонетическую поэзию, Крученых (а вслед за ним Г. Балль со своими Lautgedichte [76] и многие другие) доводит модернистский проект до крайности: он становится создателем мира автономного и, само собой, автореференциального, потому что, как он говорит в знаменитой «Декларации слова как такового» (1913), «новая словесная форма создает новое содержание, а не наоборот» [77]. По сути, Крученых хотел свести к минимуму антиномию мысль/речь, поскольку «мысль и речь не успевают за переживанием вдохновенного, поэтому художник волен выражаться не только общим языком (понятия), но и личным (творец индивидуален), и языком, не имеющим определенного значения (не застывшим), заумным. Общий язык связывает, свободный позволяет выразиться полнее» [78]. Опять процедура ровно та же, какая проявляется в живописи: читая теоретические трактаты Малевича, мы понимаем, что отказ от предмета или сюжета (первого означаемого) обусловлен онтологической необходимостью добиться новой чистоты, чистоты, присущей целому мирозданию, заключенному в каждом новом и независимом предмете.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: