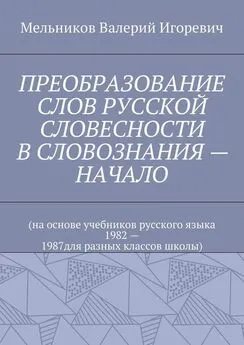Жан-Филипп Жаккар - Литература как таковая. От Набокова к Пушкину: Избранные работы о русской словесности
- Название:Литература как таковая. От Набокова к Пушкину: Избранные работы о русской словесности
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Новое литературное обозрение
- Год:2011
- Город:Москва
- ISBN:978-5-86793-925-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Жан-Филипп Жаккар - Литература как таковая. От Набокова к Пушкину: Избранные работы о русской словесности краткое содержание
Литература как таковая. От Набокова к Пушкину: Избранные работы о русской словесности - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Предпосылки этого краха существовали уже довольно давно. Например, в 1913 году, когда Гнедов только-только издал свою брошюру «Смерть искусству» [504], состоящую из 15 «поэм», каждая из которых была не длиннее одной строки, а в двух случаях даже сводилась к одной-единственной букве. Например, в поэме 14, ставшей столь знаменитой, — «Ю». Здесь автореференциальность максимальна. Разумеется, являясь в сборнике в качестве предпоследнего включенного в него произведения, она, эта буква «Ю», призывает к себе букву «Я», являющуюся не только следующей и последней буквой русского алфавита, но и одновременно, разумеется, местоимением первого лица единственного числа; местоимением, которое мы были бы вполне вправе ожидать от хорошего эгофутуриста; местоимением, которое, заметим, также авторефе-ренциально и которое вписывает автономного индивидуума в великое Всё… Но это уже философия.
На самом деле произошло другое. Последняя в сборнике «поэма» сводится к его названию: «Поэма конца». Это все: она, стало быть, является совершенно афонической. Причем эта «афония» перформативна, поскольку название, предвещающее конец, обращено в сторону молчания. Это молчание было, однако, прочитано. В. Пяст вспоминал, как автор декламировал эту заключительную «поэму»:
Слов она не имела и вся состояла только из одного жеста руки, быстро подымаемой перед волосами и резко опускаемой вниз, а затем вправо вбок. Этот жест, нечто вроде крюка, и был всею поэмой [505].
Конечно, можно сказать, как это делает С. Сигей в предисловии к переизданию Гнедова, что поэт «оказывается у истоков современного синтетического искусства» [506]. Однако, оказываясь на экстравербальной территории, мы меняем регистр (танец, «перформанс», «body-art»). Поэт-эгофутурист Игнатьев в своем манифесте-предисловии к «Смерти искусству» заявляет следующее: «Гнедов Ничем говорит целое Что» [507]. Но все же далее добавляет, что будущее литературы есть Безмолвие…
Однако молчания не наступило, или же, точнее, это молчание оказалось столь грохочущим, что его нарекли абсурдом.
IV. ПЕРЕЧИТЫВАЯ КЛАССИКУ
Наказание без преступления
(Хармс и Достоевский) [*]
Связь повести Хармса «Старуха» с Достоевским без труда угадывается даже неискушенным читателем. Пародийный аспект этого произведения, поднятая в нем тема наказания в отсутствие преступления и значение, которое она приобретает в контексте 1930-х годов XX века, отмечались уже неоднократно [509], однако нам представляется небесполезным уточнить некоторые положения, чтобы показать, насколько недостаточно интерпретировать отношения двух писателей исключительно с точки зрения пародии.
Стоит напомнить в двух словах содержание повести. Герой-рассказчик — писатель, безуспешно пытающийся создать рассказ о чудотворце, который не творит чудес. Его прототипом во многом является сам Хармс: живет в том же районе Ленинграда, что и Хармс, курит трубку, ненавидит детей, мучается теми же «проклятыми вопросами» бытия, его друг Сакердон Михайлович напоминает друга Хармса Николая Олейникова и т. д.
Однажды утром он встречает старуху, которая держит в руках стенные часы без стрелок; на вопрос о времени она отвечает: «Сейчас без четверти три» [510](очевидный намек на «Пиковую даму» Пушкина). В этот же день она приходит к герою-рассказчику и умирает. В растерянности тот не знает, что предпринять, хочет доложить о случившемся управдому, но лишь тянет время. Именно из-за этой нерешительности, а еще потому, что голоден, он идет в булочную. Там в очереди завязывается короткий разговор с «дамочкой», он приглашает ее к себе выпить водки, но, спохватившись, ретируется. Затем он направляется к Сакердону Михайловичу выпить водки и закусить сардельками — к этой центральной сцене повести мы еще обратимся в дальнейшем, — а потом возвращается к себе в надежде, что старухи там больше нет («Неужели чудес не бывает?!»; 178). Но, войдя в комнату, видит, что старуха-покойница на четвереньках ползет к нему… В страхе герой хватается за молоток для крокета. В конце концов он принимает решение в духе уголовного романа (как он сам себя убеждает) избавиться от трупа, засунув его в чемодан и выбросив где-нибудь на болоте на окраине Ленинграда. В поезде у него начинаются рези в животе, он бежит в уборную и, возвратившись на свое место, видит, что чемодан украден. Предчувствуя неминуемый арест, герой выходит на станции Лисий Нос и в ожидании обратного поезда идет в лес. Там, став на колени перед ползущей (как старуха!) гусеницей, он произносит: «Во имя Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь» (188).
В качестве предварительного замечания хотелось бы также добавить, что повесть занимает особое место в творчестве Хармса: во-первых, это единственный текст такого значительного объема (примерно полтора печатных листа); во-вторых, в поэтике писателя он представляет собой новое направление, более «классическое» по сравнению с авангардистскими поэтическими экспериментами начального периода и крайним, доходящим порой до нелепости минимализмом затем последовавшего периода. Написанная в 1939 году, то есть незадолго до ареста автора, повесть в известной мере подводит итог всему предшествующему периоду. Ее появление в свете периодизации творчества Хармса представляется вполне закономерным. Действительно, как мы старались показать в наших работах, творчество Хармса делится на два периода [511]. Первый период (1925–1932) следует рассматривать в контексте заката авангарда, запутавшегося в непреодолимых трудностях (вследствие как внешнего давления, так и внутренних философско-эстетических проблем, которых мы не будем касаться). Это период оптимизма, отмеченный эстетикой формалистских поисков. Второй период — период сомнений, представленный поэтикой, которую можно (разумеется, со всей осторожностью) сблизить с поэтикой абсурда, понятого как некий вариант экзистенциализма [512].
Вполне закономерно, что при переходе от первого периода ко второму Хармс сменяет поэзию на прозу и что в итоговой повести «Старуха» он вновь поднимает вопросы, близкие к тем, что были у Достоевского. А тот факт, что «Старуха» была написана во время разгула сталинского террора, заставляет нас задаться некоторыми вопросами.
Как уже отмечалось, сопоставительный анализ «Старухи» с произведениями Достоевского был уже в общих чертах разработан, хотя, разумеется, не исчерпывающим образом. По сходству сюжетной ситуации к повести ближе всего «Преступление и наказание»: в комнате с трупом старухи находится молодой человек, в страхе пытающийся найти выход из ужасного положения. Повесть Хармса, как и роман Достоевского, следует включить в «петербургский текст», тем более что действие происходит во время белых ночей, и это влечет за собой целую цепь аллюзий. Герой-рассказчик описывает свой маршрут по городу подобно тому, как описан маршрут Раскольникова, и также страдает от летней жары. Наконец, он, как и Раскольников, живет в одной бедной комнате со скудной мебелью и часто лежит на «кушетке», как Раскольников на своей «неуклюжей большой софе» [513].
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: