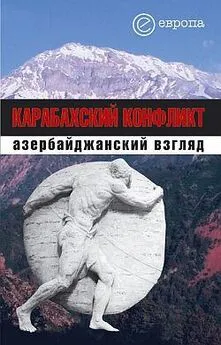Коллектив авторов - Проклятые критики. Новый взгляд на современную отечественную словесность. В помощь преподавателю литературы
- Название:Проклятые критики. Новый взгляд на современную отечественную словесность. В помощь преподавателю литературы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Прометей
- Год:2021
- Город:Москва
- ISBN:978-5-00172-188-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Коллектив авторов - Проклятые критики. Новый взгляд на современную отечественную словесность. В помощь преподавателю литературы краткое содержание
Этот сборник – первая, не имеющая аналогов, попытка обобщить альтернативный взгляд на нашу новую словесность.
Книга будет полезна филологам, школьным и вузовским преподавателям литературы, а также всем, кто хочет самостоятельно разобраться в том, каких современных российских писателей действительно стоит читать и пропагандировать, а про каких достаточно знать, что они лауреаты «Большой книги» или «Букера».
Проклятые критики. Новый взгляд на современную отечественную словесность. В помощь преподавателю литературы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Такова общественная функция современной литературы – оглупление, деинтеллектуализация личности, ее обуздание, содержание в загоне семейной саги, в узде эротомании, на поводке коротких и маленьких политизированных мыслей-лозунгов, в кругу малых дел.
В какой-то мере такой переход был неизбежен. Не может же быть такого, чтоб все общество отступало, впадало в спячку, а литература по-прежнему будила и звала. У общества действительно оказался прочный желудок. Оно проглотило и литературу. Перспектив роста нет, будущее отменили. Весь XX век шла разборка с большими идеями. Следовало их выветрить и из литературы.
Мысль Владимира Войновича, о том, что «свобода лучше литературы» следует прочитывать не только в том смысле, что всеобщее чтение – признак тоталитаризма, а при демократии можно и не читать, но и в том, что у литературы в эпоху падения всеобщих смыслов и ценностей остается лишь одна функция – идеологическая. Идеи ушли, осталась идеология, причем такая, которая исключит появление любых иных, альтернативных.
Это интуитивно чувствовалось у нас на протяжении последних десятилетий. Закрепилось и оформилось в виде двухпартийной системы – либеральной и консервативно-патриотической. И в том, и в другом лагере эстетическая ценность текстов и моральный авторитет писателя определялись его политическими убеждениями. В обоих партиях текст имел смысл только тогда, когда попадал в определенную идеологическую струю.
Важны были не творческие достижения, а верность догматике. Слово «творчество» вообще стало малоупотребительным. И потому что его не стало, и потому, что оно не требовалось. Творчество предполагало новизну, новизна – выход за колючую проволоку разговоров о сталинских лагерях или дедовскую деревенскую поскотину. Без творчества письмо стало идеологизированным, имитационным, шаблонным, схематичным. В том лагере – плывут пароходы с заключенными, и несется плач интеллигенции по чему-нибудь, в этом – благодатно дымит святая печная Русь, мужики и бабы расселись на завалинке. Там требовался доморощенный модернизм. Здесь верность заветам классики (несмотря на то, что та вовсе не была деревенской), высокому дедушкиному реализму.
Собственно, в этих условиях и критика потеряла всякий смысл как оценка эстетических достоинств. Текст мог быть воспринят только с точки зрения идеологической значимости – неважно, память ли это о тоталитарной травме, прославление сексуальной свободы, гуманного отношения к меньшинствам или «развитие традиций».
Написать что-то вразрез, самому, выпадая из предписанных тем и положений, означало остаться за бортом очерченного литературным «светом» пространства большой литературы.
То же самое произошло и с читателем. Его формовка, воспользуемся словом Николая Добренко, считающего, что прокрустово ложе работало только в советские времена, шла в направлении дрессировки существа, ориентированного на определенный набор тем, на определенную ее подачу, которые так или иначе оправдывают сложившийся порядок, рисуют его как лучшую эпоху «в истории России и человечества». Никогда еще мы не жили так хорошо, и лучше жить не будем – вот то, вокруг чего крутится вся современная литература, даже когда ноет о бедствиях и неустройствах сегодняшнего дня.
Алексей Варламов едва ли не в каждом интервью говорит о том, что современная литература не знает цензуры.
Это не то заблуждение, не то лукавство. Отсутствие цензуры в современной литературе мотивировано не изобилием свободы, а тем, что она вся, целиком, на выходе имеет сейчас подцензурный характер. Незачем контролировать того, кто и так уже знает границы дозволенного литературной идеологией, кто свыкся с тем, что не летать ему соколом по поднебесью.
Общая позиция, озвучиваемая теперь: литература не должна искать, тогда она не будет и проповедовать.
Литература должна транслировать уже готовое, найденное, стать лексиконом прописных истин. Потому что иных истин искать и не надобно.
« Властители дум сейчас не возникнут, и слава Богу » – заявляет главный редактор «Литературной газеты» Максим Замшев.
Вот так откровенно. Но ценно, что не затаился и сказал напрямую. Все верно. Дела обстоят так, что к литературному рулю не могут быть подпущены люди такого властительно-думающего, размышляющего рода. Вся система работает на это. То есть не нужны не только властители, с чем еще как-то можно было согласиться, но и сами думы.
Дозволенное – это уровень Водолазкина: « Российские писатели пишут ради некой сверхзадачи – помочь человеку, сделать так, чтобы читателю стало легче ».
Легче! Вот лозунг эпохи.
Быть слегка вдумчивым, в меру моралистом. И побольше оптимистом.
А вот мнение Алексея Макушинского, попавшего в первые ряды литературы, видимо, за генетические заслуги перед ней, за то, что потомок родителя «Детей Арбата»: « Мне кажется, что одно из преимуществ нашего времени в том, что литература утратила свою традиционную роль, свою общественную миссию. Традиционная русская литература, которая собой замещала все… утрачивает свою роль. Я считаю, что это позитивный фактор… Все же это признак какой-то нормализации ».
То есть литература перестает быть литературой. Она становится ничем. Это нормально.
Вот на таком фоне, среди вот такого откровенного признания, что мы входим в стадию нормального легкого дебилизма, возникают возгласы о нигилизме.
Но разве то, что творилось последние годы в литературе – не нигилизм в чистом виде? Литературу превратили в пустое место. Это признает даже новоявленный «защитник» отечественной словесности Герман Садулаев. Правда, просит при этом сохранить ее для потомков именно в таком виде.
Современные попытки отстоять существующее положение с паразитарным существованием толстых журналов, залезших в карман налогоплательщику, распределительной премиальной системой, убеждением, что литература не только может, но и должна существовать без читателя – разве это не нигилизм чистой воды?
У нас нет ничего. Литературные функционеры хотят, чтобы так было и дальше.
Их устраивает контролируемая (только малое может быть легко контролируемо) небольшая сфера для немногих. Что бы им пришлось делать с тем, если бы литературы оказалось много? Неподцензурная, интернетная литература и критика пугает не непрофессионализмом (откройте, к примеру, того же Водолазкина, ну что там профессионального?), а принципиальной своей неподконтрольностью, неуловимостью. Там может быть что угодно, в том числе и то, из чего что-то выйдет. В том числе и то, что отрицается последние годы – адекватное восприятие действительности, должные моральные ориентиры, вообще тот род литературы, который не согласуется с тем, что дозволен ныне литературным начальством и функционерами. Вдруг возникнет что-то новое, интересное, а вовсе не съеживающееся и не умирающее?
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: