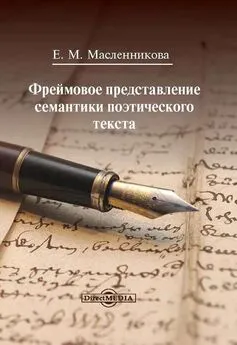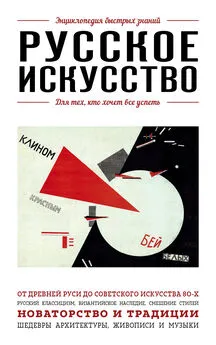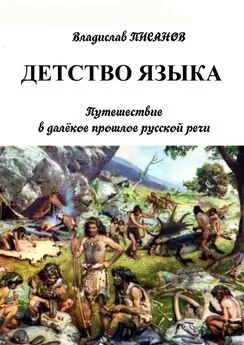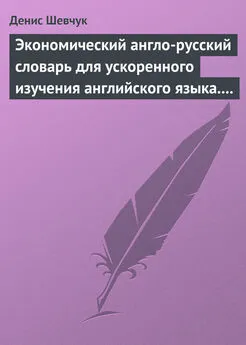Вероника Файнберг - К русской речи: Идиоматика и семантика поэтического языка О. Мандельштама
- Название:К русской речи: Идиоматика и семантика поэтического языка О. Мандельштама
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2020
- Город:Москва
- ISBN:9785444814000
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Вероника Файнберг - К русской речи: Идиоматика и семантика поэтического языка О. Мандельштама краткое содержание
К русской речи: Идиоматика и семантика поэтического языка О. Мандельштама - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
И ни крупицей души я ему не обязан («С миром державным я был лишь ребячески связан…», 1931) – ни крупицы чего-либо и быть обязанным чем-либо
Мыслям и чувствам моим по старинному праву («С миром державным я был лишь ребячески связан…», 1931) – по праву
Там зрачок профессорский, орлиный («Канцона», 1931) – орлиный взгляд
И пахло до отказу лавровишней! («Полночь в Москве…», 1931) – до отказа 24
Есть блуд труда, и он у нас в крови («Полночь в Москве…», 1931) – нечто (у нас) в крови
А иногда пущусь на побегушки («Еще далеко мне до патриарха…», 1931) – на побегушках
Послать хандру к туману, бесу, ляду («Еще далеко мне до патриарха…», 1931) – к ляду, к черту
И Фауста бес, сухой и моложавый, / Вновь старику кидается в ребро («Сегодня можно снять декалькомани…», 1931) — (седина в бороду), бес в ребро
Кто за честь природы фехтовальщик? («Ламарк», 1932) – биться/сражаться за чью-либо честь
Ты у нас хитрее лиса («Стихи о русской поэзии, 1», 1932) – хитрый лис
И прямо мне в душу проник («Татары, узбеки и ненцы…», 1933) – залезть в душу
Хоть ключ один – вода разноречива – / Полужестка, полусладка… 25(«Когда уснет земля и жар отпышет…», «<���Из Петрарки>», 1933) – жесткая вода
Конькобежец и первенец, веком гонимый взашей («Голубые глаза и горячая лобная кость…», 1934) – гнать взашей
И в глубине сторожевой ночи («Если б меня наши враги взяли…», 1937) – глубокая ночь
Чернорабочей вспыхнут земли очи («Если б меня наши враги взяли…», 1937) – вспыхнул взгляд, глаза загорелись
И глаза застилавший мрак («Средь народного шума и спеха…», 1937) – (мрак) застилает глаза
Эта слава другим не в пример («Стихи о неизвестном солдате», 1937) – не в пример другим.
Мы видим, что поэзия Мандельштама регулярно прибегает к идиоматике. Она часто реализуется в словарном значении, хотя иногда помещается в нестандартные контексты, что приводит к семантическому сдвигу в рамках поэтического высказывания (при этом семантика идиомы не меняется или меняется минимально). Во всех приведенных в разделе 1примерах идиома / коллокация легко опознается читателем. Конечно, наш список «простых» примеров заведомо неполный и количество примеров может быть значительно умножено; нормативное употребление фразеологии и ее легкие модификации характерны для поэтической речи и Мандельштама специальным образом не выделяют. Однако в стихах Мандельштама выделяются более сложные случаи работы с идиоматикой, которые мы классифицировали и объединили в следующие классы. В них примеры будут комментироваться и разбираться подробнее.
2. СЕМАНТИЗАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ИДИОМЫ/КОЛЛОКАЦИИ В ВЫСКАЗЫВАНИИ
К этому классу можно отнести случаи, когда в высказывании проявляется одна идиома/коллокация; она сохраняет свое значение, но в то же время оказывается значимой и семантика составляющих ее слов. Таким образом, в высказывании возникает смысловая двойственность.
Схематическая запись: идиома АБ представлена в тексте одновременно как АБ/А+Б.
Эталонный пример:
«Душно – и все-таки до смерти хочется жить» («Колют ресницы. В груди прикипела слеза…», 1931) – идиома до смерти проявляется здесь и в идиоматическом – ‘очень’, и в буквальном смысле (в последнем случае создается оксюморонный эффект).
Случаев семантизации в корпусе стихов Мандельштама довольно много. Они могут быть заметны в рамках одного высказывания или лишь в контексте всего стихотворения, а могут играть ключевую роль или быть факультативными.
В корпусе стихов Мандельштама выделяются случаи семантизации элементов идиомы / коллокации на основе сочетаемости разных существительных с одним и тем же глаголом: совпадающая сочетаемость объединяет разные слова и притягивает друг к другу далекие понятия.
Эта модель обнажена, например, в строке «Ну а в комнате белой, как прялка, стоит тишина» («Золотистого меда струя из бутылки текла…», 1917): соотнесение «прялки» с «тишиной» возникает благодаря буквализации глагола стоять из коллокации стоит тишина . По такой же логике сопоставлены «ресницы» и «окна» в строке «Как ресницы, на окнах опущены темные шторы» (это каламбурное сравнение обеспечено общим глаголом в коллокациях опускать ресницы и опускать шторы ).
Другую группу образуют случаи, основанные на разных возможностях языковой игры со словами, из которых состоят идиомы и коллокации. Сюда входят примеры, построенные на омонимии или многозначности, мотивированной контекстом стихотворения, а также такие варианты обыгрывания состава устойчивых сочетаний, как столкновение паронимов или заострение внимания на лексических элементах, образующих идиому.
Так, в стихотворении «О, этот медленный, одышливый простор!..» (1937) строки «На берегах зубчатой Камы : / Я б удержал ее застенчивый рукав …» выделяют элемент выражения рукав реки в отдельное омонимичное слово ( рукав реки оказывается рукавом, частью одежды, за которую можно «задержать» уходящего). Другой пример, в котором заметно внимание Мандельштама к составным элементам идиом, – строки «И жаркие ларцы у полночи в гареме / Смущают не к добру , смущают без добра » («Как светотени мученик Рембрандт…», 1937), где идиома не к добру служит основанием для языковой игры с многозначным словом добро , которое благодаря контексту встроено в высказывание дважды, в разных своих значениях.
В приведенных стихах можно увидеть обнажение приема, поскольку омоним стоит отдельно и сразу помещен в свойственный ему контекст. В большинстве случаев мы столкнемся лишь с мерцанием семантики элементов внутри идиомы.
Приведем примеры из двух групп в хронологическом порядке.
«Когда же <���…> / И будет вышина легка / И крылья тишина расправит ?» («Под грозовыми облаками…», 1910) – с учетом «птичьей» образности в стихотворении («Несется клекот вещих птиц», «Как ласточка перед грозою») идиома расправить крылья одновременно и воспринимается в своем переносном значении, и представляется буквально реализованной.
«И нету ни молитв, ни слов » («Когда укор колоколов», 1910) – выражение нет слов здесь разделено молитвами и поэтому практически не прочитывается как устойчивое словосочетание, хотя мы считаем, что здесь актуален и его идиоматический смысл (‘крайняя степень разных эмоций’).
«В нас вошла слепая радость – / И сердца отяжелели » («Вечер нежный. Сумрак важный…», 1910) – идиома с тяжелым сердцем здесь буквализуется по аналогии с такими устойчивыми выражениями, как ноги отяжелели или он за эти годы отяжелел (‘набрал вес’), то есть сердце становится тяжелым из‐за вошедшей в него радости . При этом идиоматический смысл сохраняется: тяжесть от слепой радости все-таки воспринимается в метафорическом ключе – как описание душевной подавленности.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: