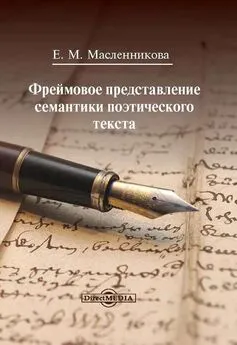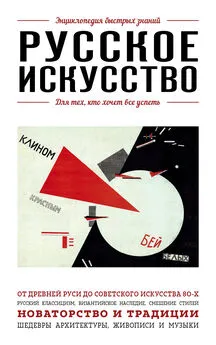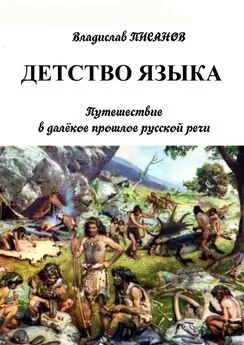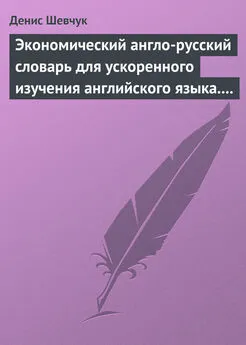Вероника Файнберг - К русской речи: Идиоматика и семантика поэтического языка О. Мандельштама
- Название:К русской речи: Идиоматика и семантика поэтического языка О. Мандельштама
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2020
- Город:Москва
- ISBN:9785444814000
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Вероника Файнберг - К русской речи: Идиоматика и семантика поэтического языка О. Мандельштама краткое содержание
К русской речи: Идиоматика и семантика поэтического языка О. Мандельштама - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
«Кремнистый путь из старой песни» («Грифельная ода», 1923) – выражение старая песня (‘нечто общеизвестное, повторяемое’), на которое обратил внимание О. Ронен [Ronen 1983: 76], по всей видимости, не осмысляется в негативном или ироническом ключе, но сохраняет идиоматическую семантику. В то же время старая песня в этом стихотворении – буквальное указание на определенную «старую песню», на лермонтовские стихи («Выхожу один я на дорогу…»), которые лежат в основе всей «Грифельной оды».
«И известковый слой в крови больного сына / Растает…» («1 января 1924») – с одной стороны, коллокация в крови понимается метафорически, как во фразах это (например, свобода ) у меня в крови. С другой – поскольку речь идет об извести как о некоем элементе, содержащемся в крови, образ можно понять буквализованно, в медицинском ключе (ср. известь в крови ).
В строках того же стихотворения – «Я, рядовой седок, укрывшись рыбьим мехом , / Все силюсь полость застегнуть» – ироничное словосочетание рыбий мех (из‐за отсутствия у рыб меха) приобретает реальное измерение: см. строку «То мерзлой рыбою стучит…» и образ щучьего суда [Ronen 1983: 231, 285].
Щучий суд заставляет обратить внимание на внутренние элементы выражения не обессудь (просьба не осудить) из строки «Не обессудь, теперь уж не беда». В свете темы суда в следующих строках («По старине я принимаю братство / Мороза крепкого и щучьего суда» [Ronen 1983: 294]) в выражении становится особенно заметным корень – суд . О самом фольклорном образе щучьего суда см. ниже.
«Давайте с веком вековать » («Нет, никогда, ничей я не был современник», 1924) – идиома век вековать (‘долго жить, проживать жизнь’) здесь раскладывается на два элемента и грамматически модифицируется так, что «век» становится для говорящего будто бы спутником, товарищем по жизни. Это создает семантическую рекурсию: (век) вековать надо «вместе с веком» (ср.: [Ronen 1983: 241]).
«Если спросишь телиани, / Поплывет Тифлис в тумане , / Ты в бутылке поплывешь» («Мне Тифлис горбатый снится», 1920–<1928>) – благодаря контексту выражение в тумане может быть понято двумя способами – буквально и фигурально: ‘город окутан дымкой, туманом’ или ‘город поплыл в глазах пьяного, видящего все как в тумане’.
«После бани, после оперы, – / Все равно, куда ни шло . / Бестолковое, последнее / Трамвайное тепло …» («Вы, с квадратными окошками…», 1925) – в разговорной фразе куда ни шло (‘так и быть, ладно’) высвобождается и наделяется самостоятельным значением глагольный элемент. Таким образом, шло будто становится сказуемым для трамвайного тепла .
«И только и свету – что в звездной колючей неправде» («Я буду метаться по табору улицы темной…», 1925) – в строке буквализуется представленная в редуцированном виде идиома только и свету в окошке, что
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
1
Разбор одного из приведенных, а также других (аналогичных) примеров см. в докладе М. И. Шапира 1992 года «Об одной тенденции в современном мандельштамоведении». URL: http://old.guelman.ru/slava/skandaly/m2.htm. Не можем не отметить, что его критика докладчика слишком персонализирована и практически не затрагивает саму интертекстуальную теорию в ее «хорошем», «правильном», «филологическом» виде. Возможность такого «чистого» существования теории у нас вызывает определенные сомнения, о чем см. ниже.
2
Интересно, что в начале 1970‐х годов к концептуальному описанию цитатности в поэзии другого модерниста – Блока – обратилась З. Г. Минц, см. ее статью «Функция реминисценций в поэтике Ал. Блока» (1973) [Минц 1973/1999]. Исследовательница предложила глубокое системное описание специфики и функций интертекстуальности в лирике поэта, однако в ее работе мы не находим того нормирования рецепции, которое сформировалось в мандельштамоведении: для Минц в этой статье прежде всего важно реконструировать объективные цитатные стратегии Блока (учитывающие культурный язык символизма), а не предложить конкретные интерпретации текстов (см. обсуждение проблемы интерпретации ниже).
3
См. нюансированный обзор генезиса и особенностей парадигмы подтекстов, написанный сторонником сложившегося подхода: [Сошкин 2015: 9–44; прим.: с. 227–301]. Наше описание несколько отличается от указанного, оно более схематично и исходит из позиции внешнего наблюдателя, а не ведется изнутри парадигмы.
4
Необходимо оговорить, что указанная тенденция в большей степени актуальна для поэзии постсимволизма. Хотя сама культурная модернизация и создание новой литературы приводят к тому, что цитация прежних текстов оказывается маркированной, по-видимому, в символистскую эпоху мемориальная функция заслонялась другими, в частности философской (см. классическую статью З. Г. Минц 1979 года «О некоторых „неомифологических“ текстах в творчестве русских символистов», в которой показано, как для авторов цитация становится частью символистского мировоззрения и символистской философии [Минц 1979/2004]; авторские интенции, впрочем, не отменяют того факта, что для читателей мемориальная функция могла быть более существенной). В определенной перспективе можно считать, что постсимволизм усвоил цитатную технику символистов, однако лишил ее философского наполнения и вывел на первый план идею напоминания о текстах; поводом к этой перемене могло быть предощущение социальных и культурных катастроф и сами исторические события.
5
О чтении между строк и эзоповом языке советского времени см.: [Loseff 1984; Каспэ 2018: 235–241; Вайль, Генис 2018: 191–196]. Приведем в связи со сказанным афористическую формулировку Вайля и Гениса: «Мир, в котором эзопова словесность замещает обыкновенную, требует особого способа восприятия. Читатель становится не пассивным субъектом, а активным соавтором. Более того, читатель превращается в члена особой партии, вступает в общество понимающих, в заговор людей, овладевших тайным – эзоповым – языком» [Вайль, Генис 2018: 193].
Тот факт, что интепретативный режим творчества Мандельштама стал базироваться на смыслах, поставляемых предшествующей культурной традицией, надо полагать, в значительной степени связан с культурной практикой обмена цитатами в разговорной речи, расцветшей в оттепельные годы и до сих пор сохранившейся у людей, сформировавшихся в советское время. По другой афористической формулировке Вайля и Гениса, «цитаты были профессиональным кодом шестидесятников, выполняя еше и функции опознавательности: по первым же словам угадывался единомышленник или идейный противник» [Вайль, Генис 2018: 176]. Авторам настоящей книги не раз доводилось слышать от коллег старшего поколения устные истории, в которых цитатным кодом для опознавания «своих» в 1970–1980‐е годы служили и стихи самого Мандельштама (так, способность человека подхватить цитату после фразы «Мы с тобой на кухне посидим» определяла дальнейшее времяпрепровождение). В каком-то смысле мышление цитатами и цитатный дискурс были приписаны и самому поэту.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: