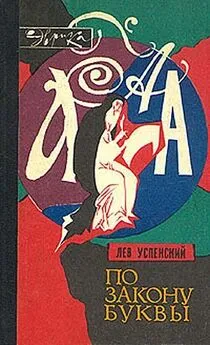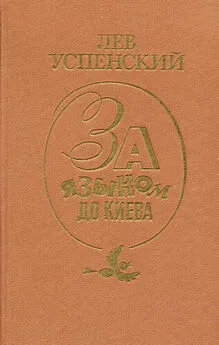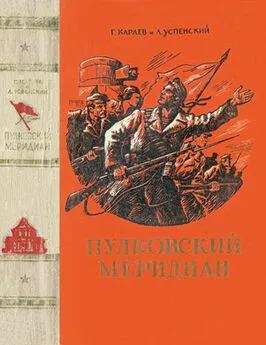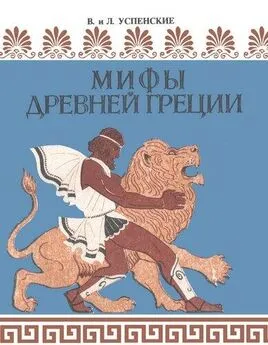Лев Успенский - По закону буквы
- Название:По закону буквы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Молодая гвардия
- Год:1973
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Лев Успенский - По закону буквы краткое содержание
Книга посвящена вопросам происхождения и истории развития русского алфавита. В ней читатель найдёт множество сведений о теоретических проблемах соотношения между звучащей речью и письменной.
По закону буквы - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:

Можно допустить: а что, если именно так, неловко и неудачно, подгоняли под подобие «мыслей» имена букв древние, жившие за века до Грамматина, педагоги? Но крайне маловероятно, чтобы можно было в одной явной бессмыслице отыскать скрытую вторую бессмыслицу при помощи логических рассуждений. Грамматинские «апоффегмы» возникли не «когда-то», а именно его трудами и в начале XIX века. Пушкин же, со своим «абсолютным слухом» художника слова, уловил фальшь и мягко упрекнул её автора.
Пушкина было почти невозможно обмануть во всём, что касалось слова. Но еще очень долго ученые продолжали возвращаться к намерению облегчить запоминание названий букв путем создания таких, грамматинского типа, «азбучных истин».
Так, примерно через столетие после Грамматина, в 1914 году, профессор Юрьевского, теперь Тартуского, университета Н. Грунский в «Лекциях по древнеславянскому языку» писал:
«Можно думать, что первоначально, например — в азбуке, послужившей в этом случае образцом для греческой, названия были придуманы с целью скорейшего изучения азбуки: каждой букве давались названия, начинавшиеся с этой буквы, причем названия соединялись по смыслу в одну картину, в один рассказ…»
Наверное, вам и без подсказки ясны слабые места этого рассуждения. Нельзя говорить о финикийской азбуке как образце для отбора греками «значимых» имён для их буквенных названий: ведь финикийский алфавит был воспринят греками, так сказать, «целиком» с тамошними, непонятными грекам наименованиями-словами. Греки никак не могли свести финикийские названия букв в «картину», потому что слова, слагавшиеся в неё, были бы для них «пустыми звуками».

Никак нельзя, как это делал Грунский, и приравнивать то, что произошло между Финикией и Грецией, со случившимся затем между греками и славянами. У финикийцев были полные смысла наименования букв, но греки усвоили только их звучания, оставив смысл за бортом. Славяне и не подумали заимствовать греческие буквенные имена, не имевшие реального значения, а вместо них придумали имена свои собственные, «значимые», но ничем не связанные с греческими.
При всём желании никак нельзя поддержать почтенного профессора, когда он уподобляет друг другу совершенно разные явления:
«Как в греческом алфавите каждая буква имела свое название, так и буквы древнецерковнославянской азбуки: «аз», «буки»… Каждое из этих названий (отчасти и теперь) сохраняет какой-либо смысл…»
Названия букв у греков никакого смысла не сохраняли. Значит, и принцип называния был в обоих случаях совершенно иным.
Допустил Грунский (и многие в его время) и еще одну существенную неточность; она объясняется состоянием науки о древностях Востока в те дни. Он забыл, что в финикийском алфавите дело начиналось с иероглифики.
Первоначально знак «алеф» был рисунком и звался «алефом» не для того, чтобы с него можно было начинать то или другое слово, а потому, что он и на деле изображал голову бычка, тельца.
Грек же назвал свою первую букву «альфой» не потому, чтобы слово это напоминало ему какой-либо предмет или понятие, а просто потому, что слово «альфа» было созвучно со словом «алеф», для грека абсолютно беззначным.
Таким образом, если названия букв в тех алфавитных системах, где они существовали, и имели некогда мнемонический характер, то, во всяком случае, характер этот возникал не в момент изобретения алфавита, а значительно позднее. Всё это могло быть только лукавым притягиванием названий букв к тем или другим словам и понятиям (или слов и понятий к буквам). Настаивать на обратном было бы так же разумно, как уверять, что человек, вычисливший в давние времена число «пи» до десятого десятичного знака, сознательно подгонял их к числу букв в словах стихотворения, составленного казанским учителем Шенроком.

Но самая идея — подкрепить изучение азбуки той или иной мнемонической подпоркой, — бесспорно, привлекательная идея. Она пленила в какой-то степени и самого Пушкина, так трезво отбросившего азбучные фантазии Грамматина.
Правда, на сей раз речь шла не о русской азбуке, а о латинской, в которой не существовало традиции связывать буквы с какими-либо значимыми словами. Во-вторых, никто не пытался в этом случае выдавать связную «картину», основанную на наименованиях букв азбуки, за измышляемую во времена создания римской письменности или при ее приспособлении к надобностям галльского, позднее романского или франкского языков. Сочинителю французской «алфавитной трагедии» удалось то, чего не смог достигнуть Грамматин, — добиться изящества и чисто французской ироничности в самой выдумке своей.
Современные ученые склонны не так уж сурово, как Пушкин, расценивать попытки Грамматина. Они указывают на существование древнейшей из известных старославянских молитв X века, так называемой «азбучной молитвы» Константина Болгарского, построенной именно на значениях названий букв. Но ведь Пушкин не отрицал теоретической возможности создания духовного или светского произведения, в котором бы так или иначе обыгрывались эти нарицательные значения букв кириллицы. Он констатировал только, что у Грамматина такая попытка получилась неудачной.
Слабость Грунского не в полном ниспровержении возможности построения тех или иных, мнемонического характера словосплетений на основе азбук — финикийской, греческой или славянской. Его слабость в том, что он полагал возможным видеть начало всех этих алфавитов в такой филологической игре, тогда как мы знаем, что они создавались иными приемами. Финикийский и греческий — наверняка! Итак, о какой же «трагедии» говорит Пушкин? Вот она.

Le Prince Eno.
La Princesse Ikaёl, amante du Prince Eno .
L'abbè Pècu, rival du Prince Eno .
Ixe, Igrec, Zede, gardes du Prince Eno .
Le Prince Eno, la Princesse Ikaёl, l'abbè Pècu, gardes
Eno:Abbeè! cèdez…
L'abbè:Eh! F…
Eno( mettant la main sur sa hache d'arme ): J'ai hache!
Ikaël( se jettant dans les bras d'Eno ): Ikaël aime Eno ( Us s'embrassent avec tendresse ).
Eno( se retournant vivement ): Pecu est resté? Ixe, Igrec, Zède! prenez m-r l'abbé et jettez-le par les fenêtres.

Принц Эно.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: