Ю Откупщиков - К истокам слова. Рассказы о науке этимологии
- Название:К истокам слова. Рассказы о науке этимологии
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Авалон
- Год:2005
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:5- 94860-022-X
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Ю Откупщиков - К истокам слова. Рассказы о науке этимологии краткое содержание
Книга в увлекательной, доступной форме рассказывает о науке этимологии в целом и о происхождении отдельных слов и выражений. Автор объясняет, что такое кальки, заимствования и этимологические дублеты, привлекая интересный материал из русского литературного языка и наречий, из иностранных языков.
Издание рассчитано на учащихся старших классов, учителей русского языка, студентов-филологов и всех, кто интересуется происхождением слов.
К истокам слова. Рассказы о науке этимологии - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Стыд и срам
И в древнерусском языке, и в диалектах современного русского языка слово стыд(ъ) засвидетельствовано также с гласным у в корне, студ(ъ). Эти два варианта слова отражают древнее славянское чередование y — ы , которое мы находим также в случаях дух ‑ — дых (сравните от- дых, дых-ание ), слух — слых, у-пруг-ий — прыг-ать и т. п.
Форма слова студ(ъ) позволила этимологам сопоставить его с такими словами, как про-студ-а и стужа (из *студ-ja ). В результате этого сопоставления этимология слова студъ/стыдъ была истолкована следующим образом. Первоначально это слово имело значение ‘холод’, затем — физическое ощущение холода, которое испытывает лишённый одежды человек. Однако обнажённый человек испытывает не только физическое ощущение холода, но и чувство нравственного смущения, которое также стало обозначаться словом студъ/стыдъ . Таким образом, слово из области физических ощущений перешло в более абстрактную сферу ощущений нравственно-этического порядка. Дальнейшее развитие значений слова студъ/стыдъ приводит к тому, что оно начинает обозначать чувство смущения, возникающего у человека, когда «обнажаются» какие-то его недостойные поступки. А отсюда недалеко до таких значений, как ‘позор’ и ‘угрызения совести’, — значений, которые в наши дни стали у этого слова наиболее распространёнными.
В сравнительно позднее время (уже в историческую эпоху развития русского языка) за основой студ - закрепилось преимущественно значение ‘холода’, а за основой стыд - ‑ значение ‘чувство стыда’. Хотя такие примеры, как чешское stydnouti [стыднути] ‘стынуть’ и русское диалектное студ ‘срам, поругание’, говорят о том, что это разграничение не всегда и не везде было проведено последовательно.
Опираясь на этимологию слова стыд , а также на другие примеры использования слов со значением ‘холод’ при формировании лексики морально-этического характера [78] Сравните, например, старославянское мразъ , русское мороз и мразь, мерзкий, стылый ‘холодный’ и стылый ‘постылый’, русское диалектное стыгнуть ‘стынуть’ и древнегреческое stygnos [стюгнóс] ‘ненавистный’ и т. п.
, замечательный русский языковед Б. А. Ларин предложил новую этимологию слова срам . Эта новая этимология основана на сопоставлении старославянского срамъ и древнерусского соромъ с литовским šarma [шармá] ‘иней’. Оба слова могут быть возведены к одной и той же основе *k’orm - (см. таблицу фонетических соответствий). Семантическая же модель здесь аналогична случаю со словом студъ/стыдъ . Кстати, литовское sarma ‘иней’ относится к старославянскому срамъ так же, как старославянское мразъ ‘иней’ и другие славянские слова с тем же значением относятся к слову мразь .
‘Короткий’ и ‘поперечный’
Случаи, когда в основе наших современных абстрактных понятий и выражающих их слов лежат понятия и слова конкретные, уже встречались нам неоднократно. Вспомните хотя бы пример со словами ловить, схватывать и (→) понимать или оплот ‘стена’ → ‘защита’. Кстати, и самое слово защита содержит в своём корне не менее конкретную основу слова щит .
Но особенно много примеров развития значений от конкретного к абстрактному можно найти среди слов, обозначающих форму предметов или выражающих пространственно-временные отношения. Выше мы уже сталкивались с такими словами, как кривой, косой, предыдущий . Русское слово глубокий становится этимологически ясным при сопоставлении с древнегреческим глаголом glyphō [глюпхо:] ‘выдалбливаю’. Это сопоставление позволяет значение ‘глубокий’ возвести к более древнему и более конкретному значению ‘выдолбленный’, так же, как, например, в случае с сербским дýбок ‘глубокий’ (к дýбим ‘долблю’) или болгарское дълбóк ‘глубокий’ (к дълбам ‘долблю, выдалбливаю’).
Слово овальный представляет собой заимствование в конечном счёте из позднелатинского ovalis [овá:лис] ‘яйцевидный’. Последнее слово в свою очередь образовано от существительного ovum [óвум] ‘яйцо’. Сходное происхождение имеет слово спиральный . Его основой послужило латинское существительное spira [спú:ра] ‘изгиб, виток’, заимствованное из греческого языка.
В плане формирования абстрактных понятий и отражающих их слов не лишены интереса этимологии ряда прилагательных со значениями ‘короткий’ и ‘поперечный’. Старославянское кратъкъ и русское короткий отражают древнюю основу *kor-t -, в которой — t - такой же суффикс, как в словах би-т-ый, коло-т-ый, поро-т-ый и т. п., a *kor — это уже знакомый нам корень *ker-/*kor - ‘резать, рубить’, который мы находим, например, в таких словах, как кор-н-ать (первоначальное значение ‘резать’), чер-т-а (этимологически значит: ‘нарезка’ [79] Сравните древнерусское чьрта ‘нарезка’ и чьрту , литовское kertu [кяртý] ‘рублю, режу’.
) и др. Иначе говоря, современное значение у слова короткий является вторичным, восходящим к более древнему значению ‘обрезанный, усечённый’. Точно такую же семантическую модель отражает английское short [шо: т] ‘короткий’ — к to shear [ту шиэ] ‘резать’, а также латинское curtus [кýртус] ‘обрезанный, короткий’ и, видимо, литовское trumpas [трýмпас], латышское strups [струпс] ‘короткий’.
Однако значение ‘обрезанный, срезанный’ не всегда развивается в сторону ‘короткий’. Выше мы уже видели, что ту же самую исходную семантику могут иметь прилагательные со значением ‘кривой, косой’. Причём это последнее значение также может изменяться. Одно из возможных направлений дальнейшего семантического развития представляет собой схема: ‘кривой, косой’ → ’криво, косо (наискось) положенный’ → ‘поперечный’.
Именно такие семантические изменения имели место в случае с литовским словом (s)kersas [(с)кярсас] ‘поперечный’ — ближайшим «родственником» нашего предлога через (др. — русск. чересъ ), исходное значение которого ‘поперёк’ (сравните: мост через реку ). В этимологическом плане литовское (s)kersas и древнерусское чересъ могут быть сопоставлены с древнерусским чьрту ‘рублю’, русским диалектным чересло ‘плужной нож, идущий впереди лемеха’ (буквально: ‘резец’), литовским kertu ‘рублю’, kerslas [кярслас] ‘долото, резец’, skersti [скярьсти] ‘резать (свиней)’.
Таким образом, мы видим, что при формировании слов с абстрактным значением в языке не создаются совершенно новые образования, а используются в более широком, в более общем смысле уже существующие конкретные слова или же создаются новые, легко воспринимаемые как производные старых конкретных слов. Особенно важную роль в формировании абстрактной лексики играли глаголы, означающие различные трудовые процессы («рубить», «резать», «выдалбливать» и др.).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:

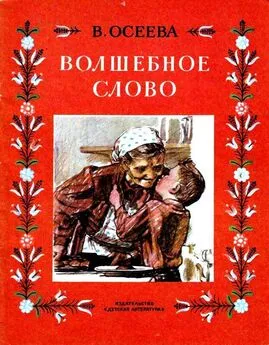
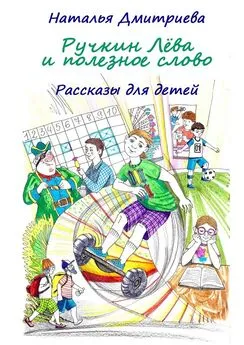

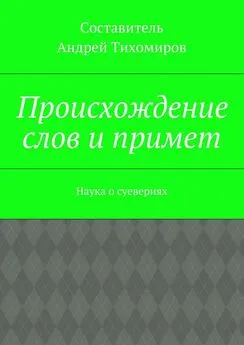
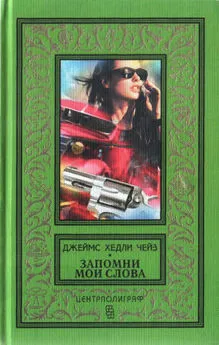
![Алесь Адамович - Пути в незнаемое [Писатели рассказывают о науке]](/books/1087691/ales-adamovich-puti-v-neznaemoe-pisateli-rasskazy.webp)
![Юрий Рост - Пути в незнаемое [Писатели рассказывают о науке]](/books/1095277/yurij-rost-puti-v-neznaemoe-pisateli-rasskazyvayut.webp)
