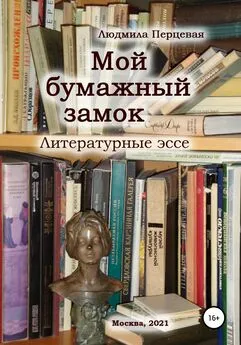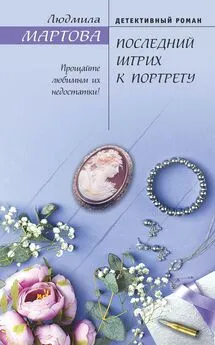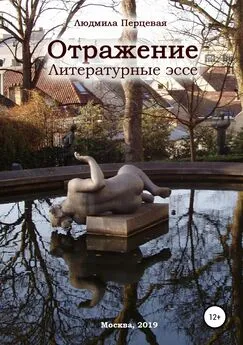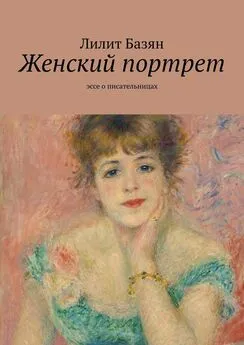Людмила Кайда - Эссе: стилистический портрет
- Название:Эссе: стилистический портрет
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Флинта, Наука
- Год:2008
- Город:Москва
- ISBN:978-5-9765-0276-5, 978-5-02-034824-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Людмила Кайда - Эссе: стилистический портрет краткое содержание
В книге впервые исследуется в аспекте стилистики текста едва ли не самый популярный жанр современных СМИ. Автор предпринял попытку дать стилистический портрет эссе, обратившись к его истокам в древнерусской и в русской классической литературе: от «слова», Феофана Прокоповича и М.В. Ломоносова до А.С. Пушкина, Л.Н. Толстого, И.А. Бунина, а также к текстам М. Монтеня, Э.Л. Доктороу, К.Х. Селы, О. Пас, Л. Гойтисоло и других иностранных авторов. Универсальная филологическая проблема «читатель и авторский подтекст» осмысляется на «опытах» (эссе) разных эпох, культур и жанровых вариантов. Анализ стилистических особенностей жанра с помощью методики декодирования позволяет выявить лингвистические контуры композиционно- речевого единства в эссеистике и формы выражения многоликого авторского «я». Работа направлена на создание общей концепции жанра, но в то же время автор стремится на конкретных примерах показать, как добиться мастерства начинающим эссеистам, научить их читать собственный текст.
Книга рассчитана на студентов и аспирантов филологических факультетов университетов, факультетов журналистики, а также на филологов широкого профиля.
Эссе: стилистический портрет - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Стилистическая модель. Ее можно уподобить голографическому изображению, ибо автор, «копаясь в себе», занимаясь самоанализом, произвольно, или даже, быть может, интуитивно выбранными композиционно-речевыми средствами насквозь «просвечивает» объект исследования, черпая в нем самом новые мысли. В работе все известные типы речи (рассуждение, повествование, описание, объяснение) и формы речи (монолог, внутренний монолог, обращенный в подтексте к самому себе, несобственно-прямая речь, диалог с воображаемым оппонентом и т. д.). И разные типы словесности: философские умозаключения, воспоминания, афоризмы, авторский комментарий и т. д. В целом же стилистические и художественные приемы помогают создать «эссему» - жанровое объединение авторской мысли и образа.
Портрет, естественно, получился в стиле сфумато: с затушеванными, смягченными тенями. Это не фотография застывшего на мгновение объекта, которую нельзя изменить. Не жанровый портрет классического эссе с неясными контурными очертаниями, на который можно наложить другой, набросав «штрихи» и к современному его облику. Их наложение, возможное при современной технике исследования, могло бы дать более объемное представление об интересующем нас объекте. Писать об «опыте» (эссе) - тоже опыт.
Впечатление удивительной легкости, ненавязчивости и незатейливости придает эссе возможность прилюдно высказаться о том, что волнует, будоражит мысль. Ведь это «опыты» (пробы), в них человек всегда вправе делиться без оглядки своими затаенными думами и чувствами, размышлять над собственным удивлением, любопытством, завистью, страхом. Мысль летит по касательной, то сужая, то расширяя круг тем, примеряя их к рождающимся новым мыслям, сопоставляя, сравнивая, путаясь и волнуясь.
А что вытворяет язык! Вся существующая система лингвистических средств и приемов - к услугам эссеиста. Все в высшей степени привлекательно для творческого развития. Только вот каждый ли, влюбившийся в этот жанр, может быть эссеистом?
Мне кажется, для этого должна быть какая-то внутренняя предрасположенность души, не всегда совпадающая с желанием. За эссе берется человек, не уверенный в себе, сомневающийся, всегда сравнивающий свои мысли с мыслями других людей, склонный к рефлексии. Он рассматривает со всех сторон интересующий его объект, отыскивает возможность хотя бы приблизиться к истине в своих откровенных размышлениях. В ход идет все: знания собственные и чужие, впечатления, восприятие, ассоциации. История и современность. Но когда это приведено, казалось бы, в некое «равновесие», автор все еще не спешит захлопнуть за собой дверь. Он всегда оставляет ее открытой для любого желающего подумать вместе.
Понимаю, что по каждой проблеме, затронутой в книге, тоже следует продолжить размышления. И невольно вспоминаю историю, рассказанную академиком Д.С. Лихачевым, у которого не грех поучиться. В «Предисловии» к «Поэтике древнерусской литературы» он, оглядывая работу, пришел к выводу: «Еже писах - писах» [180] Лихачев Д.С. Поэтика древнерусской литературы. 3-е изд., доп. М.: Наука, 1979. С. 352.
, потому что ничего нельзя изменить. А в «Послесловии», озаглавленном «Зачем изучать поэтику древнерусской литературы? (вместо заключения)», рассуждает: «Может быть, вопрос о том, почему нужно изучать поэтику столь далекой от современности древнерусской литературы, надо было поставить в начале книги, а не в ее конце». И отвечает на собственные сомнения так: «Но дело в том, что в начале книги ответ на него был бы слишком длинным. К тому же он приводит нас к другому, гораздо более сложному и ответственному вопросу - о смысле эстетического освоения культур прошлого вообще» [181] Там же.
.
Сомнения одолевают и меня при виде уже написанного. Но вновь ощущаю его непроизнесенные слова поддержки: «Ни один из вопросов, поднятых в этой книге, не может считаться решенным окончательно. Задача данной книги - наметить пути изучения, а не закрыть их для движения ученой мысли. Чем больше споров вызовет эта книга, тем лучше. А в том, что спорить нужно, - сомневаться нет оснований» [182] Лихачев Д.С. Поэтика древнерусской литературы. 3-е изд., доп. М.:Наука, 1979. С. 352.
.
* * *
Иногда, правда, мне даже кажется, что писать об эссе - это как передавать словами образ утекающего времени на картинах Сальвадора Дали. У него «Постоянство памяти» - так называется одна из них - заключается в пластичных формах свободного движения времени, влекущих в бесконечность. Эссе, суть которого - постоянное движение мысли, обладает своим собственным «постоянством памяти», в котором есть что-то завораживающее.
Приложение
Текст 1 И.А. БУНИН ПОЗДНЕЙ НОЧЬЮ [183] Бунин И.А. И след мой в мире есть. М., 1989. С. 69-72.
Был ли это сон или час ночной таинственной жизни, которая так похожа на сновидение? Казалось мне, что осенний грустный месяц уже давным-давно плывет над землей, что наступил час отдыха от всей лжи и суеты дня. Казалось, что уже весь, до последнего нищенского угла заснул Париж. Долго спал я, и наконец, медленно отошел от меня сон, как заботливый и неторопливый врач, сделавший свое дело и оставивший больного уже тогда, когда он вздохнул полной грудью и, открыв глаза, улыбнулся застенчивой и радостной улыбкой возвращения к жизни. Очнувшись, открыв глаза, я увидел себя в тихом и светлом царстве ночи.
Я неслышно ходил по ковру в своей комнате на пятом этаже и подошел к одному из окон. Я смотрел то в комнату, большую и полную легкого сумрака, то в верхнее стекло окна на месяц. Месяц тогда обливал меня светом, и, подняв глаза кверху, я долго смотрел в его лицо. Месячный свет, проходя сквозь белесые кружева гардин, смягчал сумрак в глубине комнаты. Отсюда месяца не было видно. Но все четыре окна были озарены ярко, как и то, что было возле них. Месячный свет падал из окон бледно-голубыми, бледными-серебристыми арками, и в каждой из них был дымчатый теневой крест, мягко ломавшийся по озаренным креслам и стульям. И в кресле у крайнего окна сидела та, которую я любил, - вся в белом, похожая на девочку, бледная и прекрасная, усталая ото всего, что мы пережили и что так часто делало нас злыми и беспощадными врагами. Отчего она тоже не спала в эту ночь?
Избегая глядеть на нее, я сел на окно, рядом с ней. Да, поздно - вся пятиэтажная стена противоположных домов темна. Окна там чернеют, как слепые глаза. Я заглянул вниз - узкий и глубокий коридор улицы тоже темен и пуст. И так во всем городе. Только бледный сияющий месяц, слегка наклоненный, катится и в то же время остается недвижимым среди дымчатых бегущих облаков, одиноко бодрствуя над городом. Он глядел мне прямо в глаза, светлый, но немного на ущербе и оттого печальный. Облака дымом плыли мимо него. Около месяца они были светлы и таяли, дальше сгущались, а за гребнем крыш проходили уже совсем угрюмой тяжелой грядой.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
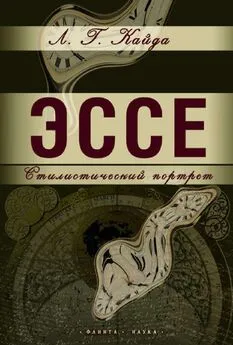

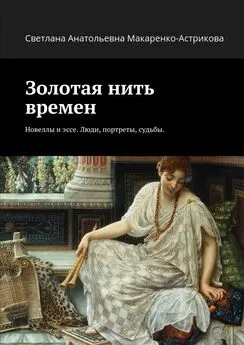
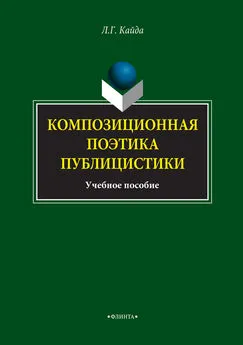
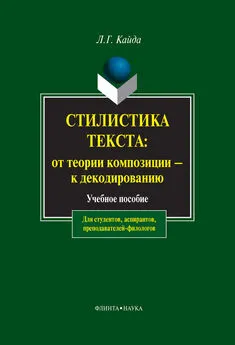
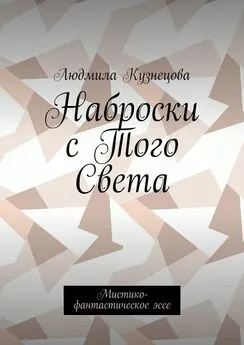
![Людмила Мартова - Последний штрих к портрету [litres]](/books/1055922/lyudmila-martova-poslednij-shtrih-k-portretu-litres.webp)