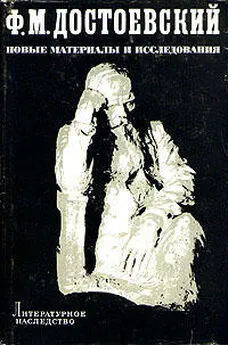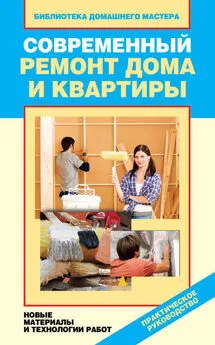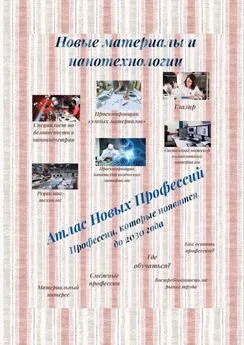Г. Коган - Ф.М.Достоевский. Новые материалы и исследования
- Название:Ф.М.Достоевский. Новые материалы и исследования
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Наука
- Год:1973
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Г. Коган - Ф.М.Достоевский. Новые материалы и исследования краткое содержание
В первый раздел тома включены неизвестные художественные и публицистические тексты Достоевского, во втором разделе опубликованы дневники и воспоминания современников (например, дневник жены писателя А. Г. Достоевской), третий раздел составляет обширная публикация "Письма о Достоевском" (1837-1881), в четвёртом разделе помещены разыскания и сообщения (например, о надзоре за Достоевским, отразившемся в документах III Отделения), обзоры материалов, характеризующих влияние Достоевского на западноевропейскую литературу и театр, составляют пятый раздел.
Ф.М.Достоевский. Новые материалы и исследования - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
" Чем больше они неистовствуют в излишествах чувственности и мысли, тем скорее они приближаются к себе ".
Достоевский для Цвейга — " вечный дуалист "; и потому является великим психологом — " психологом из психологов ", что " каждое чувство, каждое побуждение всегда доведено у него до последней глубины, до истоков всякой силы, до последнего противоречия между "я" и миром, между гордостью и смирением, расточительностью и бережливостью, одиночеством и общительностью, центробежной и центростремительной силой, самовозвышением и самоуничижением, между личностью и богом ".
Во всем " переступающий границы ", Достоевский для Цвейга — уникальный человеческий феномен. Показательно проходящее через всю книгу Цвейга сопоставление Достоевского с Гете, нередкое, как уже указывалось, в критике и литературе тех лет. Гете — спокойный (" холодный ") олимпиец, стремящийся к гармонии и порядку, Достоевский — страстный и темпераментный " сверхчеловек ", воплотивший в себе весь мир противоречий, хаос, — такова суть этого сопоставления.
" Гете стремится к антично-аполлоновскому, Достоевский — к дионисийскому идеалу. Он желает быть не богоподобным олимпийцем, а всего лишь — сильным человеком. Его мораль направлена не к классицизму, не к норме, а только к интенсивности ".
В отличие от Гете Достоевский — " олицетворенный контраст ".
Совершенно очевидно, что и для Цвейга Достоевский — не писатель, не художник, а учитель жизни и оракул. " Не будем называть их романами , — говорит Цвейг о произведениях Достоевского, — не будем применять к ним эпическую мерку: они давно уже не литература, а какие-то тайные знаки, пророческие звуки, прелюдии и пророчества мифа о новом человеке ". Как и Гессе, Цвейг оценивает Достоевского, исходя из запросов современной ему духовной жизни, и также приходит к выводу, что Достоевский — самый актуальный для Запада из всех мировых писателей. Ибо " он первый подал нам ту весть о человеке, которую мы сами воплощаем в себе… "
Как и этика экспрессионистов, точка зрения Цвейга, несомненно, формировалась под влиянием событий первой мировой войны. Апеллируя к Достоевскому, экспрессионисты и Цвейг как бы стремились видеть в русских не врагов, а братьев, в русской душе — не чуждую душу, а " фрагмент мировой души ". " И как раз в недавней войне , — пишет Цвейг, — мы почувствовали, что все, что мы знаем о России, мы знаем через него, и он дал нам возможность ощутить в этой враждебной стране братскую душу ".
Именно витальная мощь, " сверхъестественная полнота действительности " помогли, по Цвейгу, и самому Достоевскому достичь " всечеловечества ", к которому русский писатель приходит, якобы реализуя противоречие между " самоуничижением и самомнением ". Противоречие, разумеется, мнимое, но именно на нем настаивает Цвейг, у которого дуализм мышления, свойственный русскому писателю, абсолютизируется и превращается в животворное начало и источник творчества. В результате — парадоксальный вывод: лишь через самоустранение достигает Достоевский самоутверждения, лишь полностью подавляя себя как личность, он поднимается до всечеловеческого.
Впрочем, это " созидание нравственного идеала из самоуничижения ", которое приписывает Достоевскому Цвейг, становится до конца понятным лишь через всю ту же антитезу " Россия-Запад ". В статье о "Братьях Карамазовых" Гессе, говоря о русском человеке, отмечал как отличительную его черту " способность раствориться, скрыться за занавесом и, преодолев principium individuationis, вернуться на другую сторону ". Достоевский, по Цвейгу, — " величайший индивидуалист ". Но для Цвейга, Как и для Гессе, индивидуализм, бесспорно, — черта " западная ". И потому, чтобы создать русского " всечеловека ", Достоевский у Цвейга уничтожает себя как " западного индивидуалиста ". Достоевский жертвует собственной личностью ради нового человечества и создает образы этих " новых людей " — Мышкина, Зосиму, Алешу Карамазова. Все эти герои, согласно концепции Цвейга, — прямая противоположность самому Достоевскому.
" Он — разлад, дуализм; они — гармония, цельность. Он — индивидуалист, замкнутый в себе; они — "всечеловеки", их существо до краев наполнено богом ".
Впрочем, миссия этих героев-" всечеловеков " заключается, по Цвейгу, в том же, к чему сводились и все сознательные или невольные усилия самого Достоевского: к прославлению жизни. Не случайно " последнее слово Достоевского " — это " слово Алеши к детям в речи у большого камня, святой варварский клич: "Как хороша жизнь!" "
Эссе Цвейга о Достоевском — наиболее обширное и наиболее цельное на немецком языке изложение жизни и творчества Достоевского с позиций " философии жизни ". Невозможно, разумеется, согласиться со всем тем, что пишет о Достоевском Цвейг. Пересказывая биографию Достоевского, Цвейг, стремящийся любой, даже малозначительный факт жизни писателя изобразить как " перст судьбы ", допускает передержки, неточности и просто ошибки. На некоторые из них справедливо указывает В. А. Десницкий во вступительной статье к цитируемому изданию книги. Но, разумеется, несостоятельность работы Цвейга обусловлена не отдельными фактическими ошибками, а общей ее направленностью, ее методом (" чувствование ") и центральной идеей (" жизнь "). Патетическое и страстное повествование Цвейга — это рассказ о вымышленном Достоевском, миф о русском писателе как " человеке-вулкане ", якобы обнажившим изначальные глубины бытия. Это подчеркивает и Десницкий.
" С. Цвейг, как и громадное большинство западноевропейских критиков и историков литературы, писавших о Достоевском, не изучает его объективно, а творит легенду о нем, воспринимает его как святого и пророка, ищет в нем созвучия и подкрепления своим философским и социальным воззрениям, утверждение своему мироощущению, своему восприятию современной культуры ".
Миф о Достоевском — таков общий результат модернистского восприятия русского писателя в Германии за 25 лет. К 1921 г. миф этот получает в Германии всеобщее распространение. Значение, которое приобрел для Германии Достоевский в 1910-1921 гг., точно и выразительно формулирует Вассерман в упоминавшейся выше статье, приуроченной к юбилею русского писателя в 1921 г.
" Редко случалось, чтобы один-единственный человек, не будучи основоположником религии или покорителем мира, произвел столь значительные изменения в психологической ситуации нескольких поколений. Благодаря ему судьба стала ближе, ощутимее, реальнее; он открыл отношения и соответствия внутреннего мира, которые были не известны раньше; он порвал старые связи и установил новые; он поднял на уровень рока сознание человека своего и последующего времени <���…> Тот, кто не пережил творения этого человека с полной самоотдачей, кто не прошел через них со смирением, восхищением или ужасом, тот ничего не знает о муках жизни и страданиях духа, о надвигающемся мраке и опасностях, еще угрожающих нашему миру " [2285].
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: