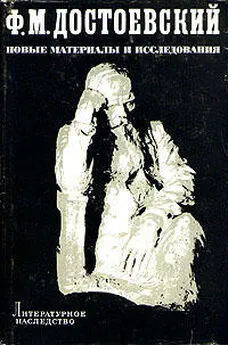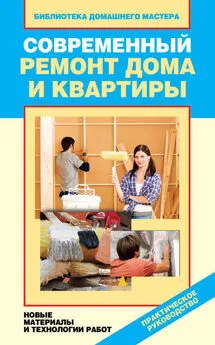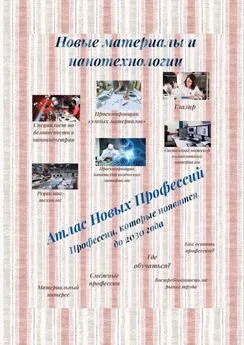Г. Коган - Ф.М.Достоевский. Новые материалы и исследования
- Название:Ф.М.Достоевский. Новые материалы и исследования
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Наука
- Год:1973
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Г. Коган - Ф.М.Достоевский. Новые материалы и исследования краткое содержание
В первый раздел тома включены неизвестные художественные и публицистические тексты Достоевского, во втором разделе опубликованы дневники и воспоминания современников (например, дневник жены писателя А. Г. Достоевской), третий раздел составляет обширная публикация "Письма о Достоевском" (1837-1881), в четвёртом разделе помещены разыскания и сообщения (например, о надзоре за Достоевским, отразившемся в документах III Отделения), обзоры материалов, характеризующих влияние Достоевского на западноевропейскую литературу и театр, составляют пятый раздел.
Ф.М.Достоевский. Новые материалы и исследования - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Второй акт, вечером того же дня в приемной Катерины Ивановны, последовательно включает визиты Ивана и Алеши, сцену " обе вместе " и последнее объяснение Дмитрия, завершаясь восклицаниями Катерины Ивановны:
" Он убьет!… Он убьет! "
В третьем акте Федор Павлович, рассказывая историю Лизаветы Смердящей, замечает над собой склоненную фигуру лакея с искаженным лицом, на котором блуждает идиотская ухмылка. В течение всей этой сцены Иван покачивается на стуле, уставившись в потолок. Последняя сцена — стук, между двумя сигналами крадучись входит Смердяков и, в то время как Федор Павлович бежит к двери, пересекая зал, прячется за колонну — снимает всякие сомнения в том, кто истинный виновник преступления. Четвертый акт (в Мокром) от этого не менее интенсивен. После многочисленных событий " последней ночи " и неудачной попытки самоубийства Дмитрия следует диалог, как бы резюмирующий ту " кошачью живучесть ", которая поразила Андре Жида в переписке Достоевского, и идея которой была энергично подхвачена впоследствии Камю (" Единственная ценность, которая нам дается, это жизнь "). Мотив " почто дитя плачет? " почти целиком переходит к Грушеньке и за ее словами: " Я с тобой, даже в Сибирь " врывается полиция, солдаты, крестьяне; следующая сцена — обвинение и арест Дмитрия.
Пятый акт — практически эпилог, из которого мы узнаем об осуждении Мити на суде и деталях, сопутствовавших убийству. Здесь более всего сказалась перекомпоновка романа в последовательности событий и отношениях между персонажами. Сцена с чертом решена так, что " черт " сливается с образом лакея и Смердяков полностью принимает на себя функции " обезьяны " Ивана Карамазова. Бред Ивана, завершающийся словами: " Ты не существуешь! " — воспринимается как активное отрицание реальной ситуации, когда в следующей сцене мы узнаем, что Смердяков повесился.
В драме дана совершенно иная сюжетная схема, чем в романе. Исчезла рефлективная нерешительность Дмитрия, последовательнее мотивированы действия Смердякова, вплоть до его самоубийства. Катерина Ивановна становится сознательной носительницей интриги и тщательно подготовленные в романе сцены исповедей и узнаваний принимают характер перипетий, неожиданных откровений тут же на сцене. Копо сам отметил " легкие изменения некоторых характеров ", в частности, Ивана Карамазова и Катерины Ивановны, " схематичность обрисовки образа Алеши ", зато " мы несколько больше высветили фигуру Смердякова " [2401]. Эта фигура еще более выдвинулась в спектакле благодаря талантливой игре Шарля Дюллена.
Дюллен рассказывает о происшедшем с ним в связи с этой ролью психологическом повороте, подобном тому, который испытал Орленев в процессе работы над ролью Раскольникова [2402].
" За несколько часов до спектакля я бродил близ парка Монсо <���…> Я все еще искал, как сыграть последнюю душераздирающую сцену <���…> Дойдя до того места роли, где я прошу Ивана в последний раз показать мне пресловутые деньги и бросаю ему: "Прощайте, Иван Федорович" — я вдруг почувствовал непреодолимую потребность бежать <���…> Вечером во время спектакля я уперся ногой в ступеньку трагической лестницы, возле которой происходил мой разговор с Иваном, предшествующий преступлению, и, как в кошмаре, вскарабкался по ее ступеням, подобно тому призраку, который предстал передо мной в момент моего необъяснимого просветления <���…> Только Смердяков научил меня правильно пользоваться моими актерскими возможностями. Именно с этого времени я и как актер и как режиссер старался не позволять критическому чувству и рассудку брать верх над инстинктом " [2403].
Это сопереживание, идущее во многом от текста (Дюллен отмечает, что после читки сценария перечитал роман Достоевского), установка на " внутреннюю игру " (" не позволять критическому чувству и рассудку брать верх над инстинктом ") и есть то " подводное течение " (Станиславский) или подтекст (Мейерхольд), которым должен был овладеть театр для более уверенного охвата " психологических глубин " Достоевского. Необходимость такого подтекста обусловлена не только особенностями его реализма, но и тем отличием романа от драмы, благодаря которому " эпически повествовательный, переносящий нас в самые души действующих лиц <���…> роман обладает ресурсами бесконечно более естественными и широкими, чем полная условностей, дающая лишь произнесенное слово, лишь законченное действие театральная пьеса " [2404].
Законченность действия на сцене требует от актера внутренней мотивации характера, которой ожидает знакомый с деталями зритель-читатель, создавший " свой более или менее конкретный образ отдельных действующих лиц " [2405]. Не этот ли предварительно созданный образ заставляет актеров играть роль " через сценарий " [2406], что невозможно игнорировать при анализе театра Достоевского. И в то же время опасно поддаваться " гипнозу текста ", требовать от театра воссоздания книги на сцене. Практически к этому уводит оперирование " через сценарий " образами Достоевского, когда для анализа созданной актером роли инсценировка приводится только для того, чтобы указать на утраченные в пьесе, по сравнению с книгой, связи и ситуации. Они неизбежны, но требуют разбора не на уровне спектакля, а скорее на уровне " драматических навыков автора ", сравнительного анализа драматического и прозаического произведений.
Разграничение этих планов находим в отзыве Луначарского на спектакль Копо с частично обновленным составом на сцене "Старой голубятни" (театр, основанный при непосредственном участии А. Жида):
" Исказили ли что-нибудь авторы переделки? Исказили постольку, поскольку многие фигуры слишком побледнели <���…> Переменилась вся экономия произведения. На первый план выдвинулось действие, те двигатели драмы, которые у Достоевского глубоко скрыты <���…> Преступление, акт Смердякова делается доминирующим центром <���…> только в драматической суммации Копо и Круэ я понял, как изумительно построил Достоевский всю эту криминальную комбинацию <���…> Драма Копо и Круэ очень цельна. В ней очень мало лишнего. Это — драма. В ней достаточно сценической логики и сценической эффектности. Поэтому попытка увенчалась внешним успехом, несмотря на то что вполне адекватного исполнителя нашла только роль Смердякова " [2407].
То, что для Луначарского " внешний успех ", для французской публики безусловный успех. Удачей явилось и художественное оформление спектакля, декорации для которого были написаны учеником Тулуз-Лотрека Максимом Детомасом. Париж долгое время оставался под впечатлением " русских сезонов " С. П. Дягилева и в "Театре искусств" под руководством Жака Руше последовательно создавалась та атмосфера света и красок, которая присутствовала в балетных декорациях Л. С. Бакста и А. Н. Бенуа, с ее стремлением подчинить зрелище духу и ритму постановки. Детомас исходил из того, что смысл декорации никогда не должен быть отделен от идеи персонажа, декорации сопутствуют ему и дополняют его.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: