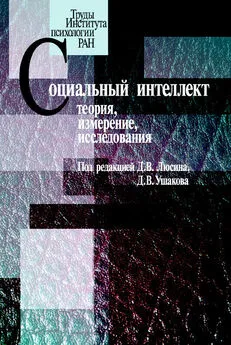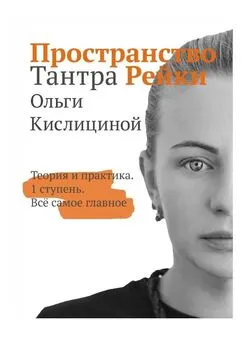Дания Салимова - Время и пространство как категории текста: теория и опыт исследования (на материале поэзии М.И. Цветаевой и З.Н. Гиппиус)
- Название:Время и пространство как категории текста: теория и опыт исследования (на материале поэзии М.И. Цветаевой и З.Н. Гиппиус)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Флинта»ec6fb446-1cea-102e-b479-a360f6b39df7
- Год:2009
- Город:Москва
- ISBN:978-5-9765-0806-4, 978-5-02-034791-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Дания Салимова - Время и пространство как категории текста: теория и опыт исследования (на материале поэзии М.И. Цветаевой и З.Н. Гиппиус) краткое содержание
Монография представляет собой результат попытки авторов осмыслить и представить свое видение вечных категорий времени и пространства в текстовом поле Марины Цветаевой и Зинаиды Гиппиус – поэтов, которых, с одной стороны, сближает не только женское начало, но и эпоха, и субъективно-поэтическое видение непростой действительности; а с другой – разъединяет в определенном смысле литературное направление (школа) и соответственно поэтическая картина мира, выразившаяся в первую очередь в особенностях языкового структурирования, лексического обрамления важных для этих поэтов концептов. Привлекаются исследования современных авторов, изучающих темпоральность и локативность как философско-языковые категории и текстовое пространство в целом, а также лингвистов-цветаеведов.
Книга предназначена для студентов-филологов, аспирантов, преподавателей-русистов, учителей-словесников.
Время и пространство как категории текста: теория и опыт исследования (на материале поэзии М.И. Цветаевой и З.Н. Гиппиус) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Откуда-тоиз древних утр туманных —
Как нас любил, слепых и безымянных.
Часто на этот вопрос поэт сам же отвечает: везде, повсюду. В стихотворении из цикла «Провода» прослеживается идея пантеистического слияния поэта с природой и со всем окружающим ее пространством:
Перестрадай же меня! Я всюду:
Зори и руды я, хлеб и вздох.
Есмь я и буду я, и добуду
Губы – как душу добудет Бог.
Примечательно, что эти локативные лексемы как концептуально значимые слова выделены в стихотворении Максимилиана Волошина «Марине Цветаевой», написанном еще в 1910 году:
Ваша книга странно взволновала –
В ней сокрытое обнажено,
В ней страна, где всех путей начало,
Но куда возврата не дано.
Помню все: рассвет, сиявший строго,
Жажду сразу всех земных дорог,
Всех путей… И было все … так много!
Как давно я перешел порог!...
Ваша книга – это весть « оттуда»,
Утренняя благостная весть.
Я так давно уж не приемлю чуда,
Но так сладко слышать: «Чудо – есть!».
М. Волошин сумел уловить основные векторы в творческих поисках Марины Цветаевой уже по ее первый книге стихов «Вечерний альбом»: это книга «оттуда», по мнению критика, где всех путей начало, но куда вернуться уже нельзя. Трактовать эту фразу можно двояко: непосредственное и простое объяснение – это строки из детства: нам же ближе интерпретация этого «всех путей начало» как того, великого мира, куда путь открыт не всем, мира высокой поэзии и неземного духа!
Стихотворение, перенасыщенное локативными словами, «В Париже», 1909:
Шумны вечерние бульвары,
Последний луч зари угас,
Везде, вездевсе пары, пары,
Дрожанье губ и дерзость глаз.
Я здесьодна. К стволу каштана
Прильнуть так сладко голове!
И в сердце плачет стих Ростана,
Как там, в покинутой Москве.
Париж в ночи мне чужд и жалок,
Дороже сердцу прежний бред!
Иду домой, тамгрусть фиалок
И чей-то ласковый портрет.
Тамчей-то взор печально-братский,
Тамнежный профиль на стене.
…
В большом и радостном Париже
Мне снятся травы, облака,
И дальшесмех, и тени ближе,
И боль, как прежде, глубока.
Поэт здесь, в Париже, одинок, все время оглядывается туда, домой, но тени ближе, а смех все дальше; так строки, содержащие простое описание вечернего Парижа, полны стремлением туда, в свой дом, а не просто домой, где не есть Родина, а лишь портрет родного тебе человека.
Но ведь уже «В раю» (1912) автор использует первые лексико-грамматические противопоставления-оппозиции:
Гдесонмы ангелов летают стройно,
Гдеарфы, лилии и детский хор,
Гдевсе покой, я буду беспокойно
Ловить твой взор…
Воспоминанье слишком давит плечи,
Настанет миг – я слез не утаю…
Ни здесь, ни там – нигдене надо встречи,
И не для встреч проснемся мы в раю!
Эти строки написаны юной девушкой, для которой уже Ни здес ь, ни там – нигде не надо встречи, то есть появление отрицания этого и даже того мира. Причем, определить, что же ближе поэту: здесь или там – очень непросто и самому автору.
Русской ржи от меня поклон,
Ниве, где баба застится…
Друг! Дожди за моим окном,
Беды и блажи на сердце…
Ты, в погудке дождей и бед –
То ж, что Гомер в гекзаметре.
Дай мне руку – на весь тот свет!
Здесь– мои обе заняты.
«Спят трещотки и псы соседовы» (1915):
Здесьу каждого мысль двоякая,
Здесь, ездок, торопи коня,
Мы пройдем, кошельком не звякая
И браслетами не звеня…
Здесь, умаленькой богородицы,
Здесь, на каменное крыльцо.
Часто здесь и там, этот и тот свет – противостояние, асимметрия, в конечном счете, выразители душевного диссонанса, вызванного иногда бессмысленными и безрезультатными поисками того мира. Эти локативные наречия в текстовом пространстве Цветаевой иногда усиливают то или иное, заложенное в словах рядом значение, то символизируют мир этот, реальный, и нереальный, потусторонний тот мир. Здесь и там как страшное откровение, как приговор прозвучат намного позже в ее письме Анне Тесковой в 1932 году: «Все меня выталкивают в Россию, в которую я ехать не могу. Здесь я не нужна. Там я невозможна» [Анри Труайя, 2004: 323].
«Домики старой Москвы» (1911):
Слава прабабушек томных,
Домики старой Москвы,
Из переулковскромных
Все исчезаете вы,
Точно дворцы ледяные
По мановенью жезла.
Гдепотолки расписные,
До потолка зеркала?
Гдеклавесина аккорды,
Темные шторы в цветах,
Великолепные морды
На вековых воротах.
Местоименное наречие где как вопрос и как союзное слово, средство связи в сложноподчиненном предложении настолько часто встречается в текстах, написанных в разные периоды, что это создает ощущение сплошного вопроса: где же мой мир, где мое место. Иногда это где предстает как неопределенность, призрачность:
Голову сжав,
Слушать, как тяжкий шаг
Где-то легчает,
Как ветер качает
Сонный, бессонный
Лес.
Ах, ночь!
Где-то бегут ключи,
Ко сну – клонит.
Где-то в ночи
Человек тонет.
И здесь ночь (время) и неизвестное место (пространство): Где-то в ночи в неразрывном единстве, которое поглощает человека-субъекта.
«Идешь, на меня похожий.» (1913) является примером, где пространственные значения завуалированы глаголами движения:
Идешь,на меня похожий,
Глаза устремляя вниз.
Я их опускала– тоже!
Прохожий, остановись!
Не думай, что здесь– могила,.
Как луч тебя освещает!
Ты весь в золотой пыли.
– И пусть тебя не смущает
Мой голос из-под земли.
Сильная позиция схожих по артикуляционным признакам звукорядов вниз – здесь – из-под земли – подчеркивает смысловую нагрузку этих локативов, имеющих объединяющую их сему 'внизу'. Движение (жизнь) и голос из-под земли – такое двойственное и сложное было мировосприятие 20-летнего поэта.
Автор всю свою жизнь искал место, свой мир, свое пространство, это эксплицируется высокой частотностью вопросительных и относительных наречий где и куда.
Я иду домой возможно тише.
…
Хочу у зеркала, гдемуть
И сон туманящий,
Я выпытать – кудавам путь
И гдепристанище…
Вечерние поля в росе,
Над ними – вороны…
– Благославляю вас на все
Четыре стороны!
… В этот миря родилась –
Быть счастливою,
Нежной до потери сил.
Интервал:
Закладка: