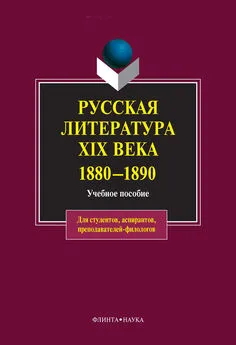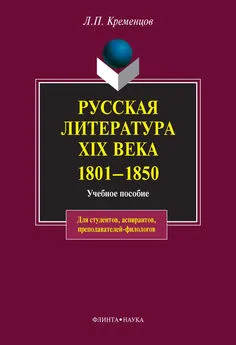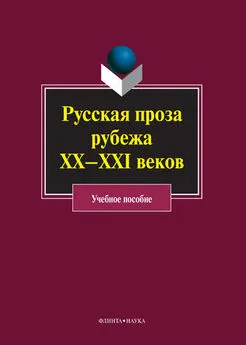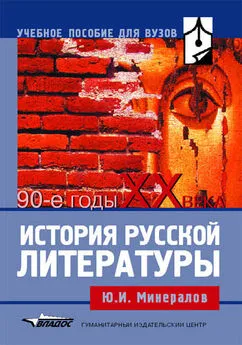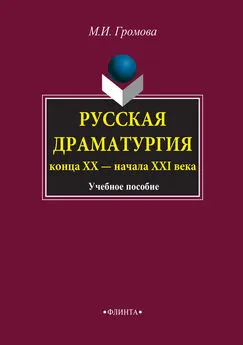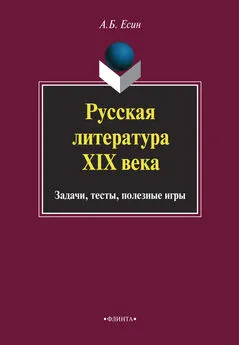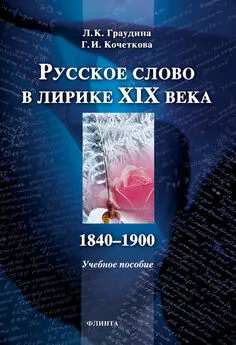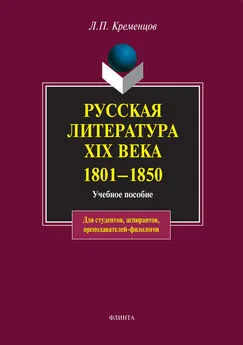Коллектив авторов - Русская литература XIX века. 1880-1890: учебное пособие
- Название:Русская литература XIX века. 1880-1890: учебное пособие
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Флинта»ec6fb446-1cea-102e-b479-a360f6b39df7
- Год:2011
- Город:Москва
- ISBN:978-5-9765-0018-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Коллектив авторов - Русская литература XIX века. 1880-1890: учебное пособие краткое содержание
Предлагаемое учебное пособие составлено нетрадиционно, по типу компендия, то есть сжатого суммарного изложения проблематики и поэтики русской словесности указанного периода. Подобный принцип представляется весьма актуальным в связи с новыми стандартами, предложенными Минобразования и науки РФ, которые предполагают, в частности, сокращение аудиторных часов и значительное расширение в учебном процессе доли самостоятельной работы студентов.
Для студентов и бакалавров филологических факультетов, аспирантов, преподавателей средних и высших учебных заведений.
Русская литература XIX века. 1880-1890: учебное пособие - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Романтическая, книжная декларативность чувствуется в искусственной лексике этой вроде бы «исповеди», ведь заканчивается монолог лирического героя молитвенным обращением к Богу. Таково слово «пустыня» в значении «уединение». Вспомним хотя бы пушкинское: «Приветствую тебя, пустынный уголок…». Или слово «пустыня» в одноимённых пушкинском и лермонтовском стихотворениях «Пророк». В монологе 21-летнего поэта эта стилистика явно заимствуется, поэтому и молитвенный финал звучит также книжно: «Дай мне силы, Господь, моих братьев любить!»
С другой стороны, декларативные признания лирического героя приоткрывают реальную философско-психологическую проблему и эмоциональное состояние, ею порождённое. Это своеобразное опустошение души, вызванное рациональной рефлексией (в этом ряду и увлечение позитивизмом), и такой же интеллектуальный эгоцентризм. В том же стихотворении находим следующее признание: «И мне страшно всю жизнь не любить никого. / Неужели навек моё сердце мертво?» Это рационально-депрессивное состояние вообще типично для молодого Мережковского. К нему добавлялись упаднические настроения конца века. В стихотворении «Одиночество» это переживание пересекается с интуициями тютчевского «Silentium»: «Поверь мне: – люди не поймут / Твоей души до дна!»; «Чужое сердце – мир чужой, / И нет к нему пути! / В него и любящей душой / Не можем мы войти».
Однако уже здесь Мережковский переживает это состояние как «болезнь души». Ему плохо с самим собой, его внутренний мир дисгармоничен и вызывает жалость: «В своей тюрьме, – в себе самом, / Ты, бедный человек, // В любви, и в дружбе, и во всём / Один, один навек!..» Как это не похоже на тютчевскую полноту внутреннего мира, которую поэт и призывает сохранить в «молчании».
Романтический мотив «молчания» восходит к аскетической практике «исихазма»: «исихия» буквально означает «молчание», «тишину», «безмолвие». И Мережковский по-своему, творчески стремится выйти из этого «пустого» уединения.
Демоническая природа одиночества лирического героя раскрывается в стихотворении «Тёмный ангел» (1895). Монолог «ангела» демона направлен против любви. Именно он «всегда» присутствует возле лирического героя, что не нарушает его одиночества, а наоборот, создаёт его: «Я – ангел детства, друг единственный, / Всегда с тобой». Этот «последний друг» и отделяет его от других: «Полны могильной безмятежностью / Твои шаги. / Кого люблю с бессмертной нежностью, / И те – враги». Такое одиночество является ноуменальным, а не социальным или идейным.
В стихотворении «Молчание» силою, преодолевающей депрессивное уединение, становится любовь: «И в близости ко мне живой души твоей / Так всё таинственно, так всё необычайно, – / Что слишком страшною божественною тайной / Мне кажется любовь, чтоб говорить о ней». Мотив тайны формирует другой образный пласт лирики Мережковского. Он связан с гностическими интуициями и религиозно-философскими исканиями поэта. Они неотделимы от изначального творческого самосознания. Уже в стихотворении «И хочу, но не в силах любить я людей…» возникает мотив слияния с Природой. Он решается не только романтически, но и мистически. Вроде бы по-лермонтовски далёкая от человека красота мира (стихотворение «Выхожу один я на дорогу…») переживается через интуицию, родство души человека с Душой Природы. Пейзаж мифологизируется: «Словно ветер мне брат, и волна мне сестра, / И сырая земля мне родимая мать…».
В программном стихотворении «Поэт»(1894) эта интуиция выражается уже как творческая задача. Здесь также заявлен мотив одиночества, но теперь оно мистически и теургически оправданно: «Я люблю безумную свободу! / Выше храмов, тюрем и дворцов / Мчится дух мой к дальнему восходу, / В царства ветра, солнца и орлов!»
Мистика Мережковского лирически получает жизнеутверждающий характер. Пейзажная зарисовка в стихотворении « Март» (1895) сливается с пасхальной символикой, с мотивом Воскресения. Эпитеты «больной» и «усталый», привнесённые в чувство природы, противопоставляются близкому поэтике Тютчева («Весенние воды») динамическому образу весеннего таяния снега: «И всё течёт, течёт… / Как весел вешний бег / Могучих, мутных вод!» А в финале мотив «умирания» «больного и тёмного» льда сменяется пасхальной радостью: «Что жив мой Бог вовек, / Что смерть сама умрёт!» Пасхальное песнопение: «Христос воскресе из мёртвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав…» проецируется в апокалиптическое видение: «И отрёт Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже…» (Откр. 21: 4).
В концептуальном богословском стихотворении « Бог», написанном в молитвенной форме, возникает образная, символическая теофания (богоявление). В отличие от языческого пантеизма, Бог не «растворён» в космосе, иерархически Он остаётся выше мира. Однако творение становится иконой Творца. Мифологема Всеединства выражается для Мережковского не через символ Софии, а через Ипостась Св. Духа, Откровение Которого поэт считал сущностью Третьего Завета, смыслом и содержанием апокалиптического будущего. Поэт пророчески возвещает:
И Ты открылся мне: Ты – мир,
Ты – всё! Ты – небо и вода,
Ты – голос бури, Ты – эфир,
Ты – мысль поэта, Ты – звезда…
Вслед за французским декадентом Бодлером (сонет «Соответствия») Мережковский заблудился в системе космической иерархии бытия. Импрессионистическая игра ассоциациями создала маннхейскую по природе концепцию «двух бездн», в которой Бог и дьявол равновелики и, по существу, мистически неразличимы. В стихотворении « Двойная бездна» (1901) поэт провозглашает не только духовное проникновение «мира иного» в «мир здешний», «отражение» одной «бездны» в другой и «двуприродность» человеческого существа (ср. у Тютчева «О вещая душа моя…»), но и мистическую неразличимость «зла»
И зло, и благо – тайна гроба.
И тайна жизни – два пути —
Ведут к единой цели оба.
И всё равно, куда идти.
Странно, что поэт считал своё учение «неохристианским» (так же как и Л.Н. Толстой своё), когда Христос чётко разделяет два пути – греха и спасения: удаления от Бога и соединения с Ним (Мф. 7: 13–14). Мережковский же вдохновенно призывает: «Ты сам – свой Бог, ты сам свой ближний, / О, будь же собственным Творцом, / Будь верхней бездной, бездной нижней, / Своим началом и концом». Идея Богочеловечества получает у поэта ницшеанский характер. По существу речь идёт не об уподоблении Богочеловеку Христу, а об обожествлении самого себя, о мистическом самоутверждении. Развивая христианскую идею богосыновства человека в стихотворении «О, если бы душа полна была любовью…», Мережковский доходит до прямого отождествления себя и Бога: «Душа моя и Ты – с Тобой одни мы оба», «Я всё же знаю: Ты и Я – одно и то же». Эта словесная игра с изречением Христа «Я и Отец – одно» (Ин. 10:30) превращается в хлыстовство.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: