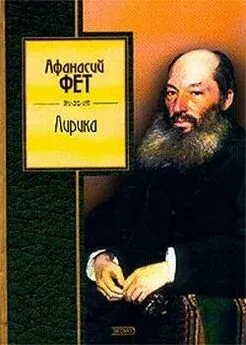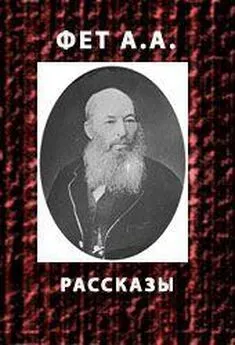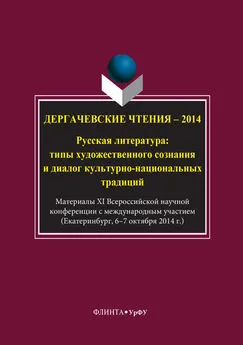Альбина Саяпова - Диалог творческого сознания А. А. Фета с Востоком (Фет и Хафиз)
- Название:Диалог творческого сознания А. А. Фета с Востоком (Фет и Хафиз)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Флинта»ec6fb446-1cea-102e-b479-a360f6b39df7
- Год:2010
- Город:Москва
- ISBN:978-5-9765-1001-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Альбина Саяпова - Диалог творческого сознания А. А. Фета с Востоком (Фет и Хафиз) краткое содержание
Лирика А.А. Фета, осмысленная как диалог с лирикой Хафиза, позволяет говорить о взаимодействиях «резонансного» типа. Художественно-философское выражение Хафизом сущностного начала эхом отзывается в западной поэзии и философии (Гете, Гейне, Шопенгауэр, Хайдеггер, Ясперс), а через них – в русской, в частности, в поэзии Фета.
Монография предназначена для исследователей творчества А.А. Фета, специалистов-филологов, студентов, всех интересующихся проблемами русской поэзии XIX века.
Диалог творческого сознания А. А. Фета с Востоком (Фет и Хафиз) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Он
Ты так нежна, как утренние розы,
Что пред зарей несет земле восток;
Ты так светла, что поневоле слезы
Туманят мне внимательный зрачок;
Ты так чиста, что помыслы земные
Невольно мрут в груди перед тобой;
Ты так свята, что ангелы святые
Зовут тебя их смертною сестрой.
Вторая часть диалога состоит из двух четверостиший, написанных четырехстопным хореем, с рифмующимися первыми и третьими, вторыми и четвертыми строками, женская клаузула чередуется с мужской. В этой части выстраивается антитеза «Ты – Я»: «Ты поешь, когда дремлю я, / Я цвету, когда ты спишь; / Я горю без поцелуя; / Без ответа ты грустишь», смысловое ее содержание – дисгармония. Второе четверостишие, начинающееся с «но», придает дополнительную семантику парному образу: вопреки всему – желание гармонии, любви: «Но ни грусти, ни мученья / Ты обманом не зови: / Где же песни без стремленья? / Где же юность без любви?»
Первая часть третьего диалога состоит из двух четверостиший. Как и во второй части первого диалога, в ней – сочетание четырехстопного хорея с трехстопным с короткими, усеченными вторыми и четвертыми строками, с мужской клаузулой. В этой части – обращение соловья к «деве-розе», по которому можно судить о главной формуле-тезе жизни «Я – Ты» («дева-роза» – соловей), которая и должна формировать мир отношений.
Вторая часть третьего диалога – пространный, пятистрофный монолог «девы-розы». Вся часть написана трехстопным амфибрахием, причем с анакрузой в каждой строке: «за», «но», «на», «что» – в первой строфе, «за», «го», «ве», «не» – во второй и т.д. Анакруза затрудняет ритм стиха, который художественно оправдан, соответствует авторскому замыслу: создается эффект неторопливого, «полусонного» повествования. Анакруза, тем самым, становится средством художественного, эмоционального воздействия на читателя. «Дева-роза» как бы укачивает своего возлюбленного, сторожит его сон, а перед тем как заснуть самой, будит своего возлюбленного:
Зацелую тебя, закачаю,
Но боюсь над тобой задремать:
На заре лишь уснешь ты; я знаю,
Что всю ночь будешь петь ты опять.
Закрываются милые очи,
Голова у меня на груди.
Ветер, ветер с суровой полночи,
Не тревожь его сна, не буди.
Я сама притаила дыханье,
Только вежды закрыл ему сон,
И над спящим склоняюсь в молчаньи:
Все боюсь, не проснулся бы он.
Ветер, ветер лукавый, поди ты,
Я умею сама целовать;
Я устами коснуся ланиты,
И мой милый проснется опять.
Просыпайся ж! Заря потухает;
Для певца золотая пора.
Дева-роза тихонько вздыхает,
Отпуская тебя до утра.
Последний диалог «Он – Она» – тоже «нестройный», прежде всего в своих частях: в первой части (голос соловья) чередуются четырехстопный хорей с трехстопным, вторые и четвертые стихи в каждой строфе усеченные (трехстопный хорей) с мужской клаузулой, размер следующей части (голос «девы-розы») – трехстопный хорей, вторые и четвертые стихи усеченные с мужской клаузулой. И здесь ритмический «сбой» художественно оправдан: он передает диссонанс форм «бытия» «девы-розы» и соловья и ассонанс их чувств.
Заключительные слова «девы-розы»: «Заревые слезы, / Наклоняясь, лью. / Пой у сонной розы / Про любовь мою!» – свидетельство взаимности чувств.
Ритмический «сбой» последней части произведения (четыре строфы) оправдан заключительными рассуждениями автора о дихотомии «соловей – роза»:
И во сне только любит и любит,
И от счастья плачет и спит!
Эти песни она приголубит,
Если эхо о них промолчит.
Эти песни земле рассказали
Все, что розе приснилось во сне,
И глубоко, глубоко запали
Ей в румяное сердце оне.
И в ночи под землею коренья
Влагу ночи сосут да сосут,
А у розы росой умиленья
Бриллиантами слезы текут.
Отчего ж под навесом прохлады
Раздается так голос певца?
Роза! Песни не знают преграды:
Без конца твои сны, без конца!
Первая строфа состоит из двух стихов с четырехстопным хореем и двух – с пятистопным, последний стих усеченный, создает мужскую клаузулу, первый стих с женской клаузулой.
Вторая строфа состоит из двух стихов с пятистопным хореем, с женской и мужской клаузулами, и двух – с трехстопным амфибрахием, с анакрузами «и», «ей», последний стих усеченный, создает мужскую клаузулу.
В третьей строфе первый стих – трехстопный амфибрахий с анакрузой «и», с женской клаузулой; второй стих – пятистопный хорей, усеченный, следовательно, с мужской клаузулой; третий стих – трехстопный амфибрахий с анакрузой «а», четвертый стих – опять трехстопный амфибрахий, усеченный, мужская клаузула.
И, наконец, четвертый стих состоит из двух стихов с трехстопным амфибрахием, с анакрузами «от», «раз», второй стих усеченный, мужская клаузула, и двух стихов с пятистопным хореем, четвертый стих усеченный, мужская клаузула.
Кроме общего анализа эмоционального, идейно-художественного содержания произведения представляется интересным более внимательно рассмотреть семантическую парадигму дихотомии «соловей – роза», через которую можно представить всю духовную биографию поэта.
Парный образ «соловей – роза», как мы говорили, создает мотив любви, гармонии и дисгармонии в ней. Фет – поэт любви. Традиционно его любовную лирику связывают с его биографией. С одной стороны, это естественно. Вместе с тем биография и творчество – это разные понятия, хотя рассмотрение некоторых фактов биографии поэта и того, что такое его художественное слово на фоне этих фактов, и дает возможность постижения более глубинного смысла этой дихотомии. При этом, естественно, надо помнить о том, что герой-человек может совпадать с автором-человеком, но герой произведения никогда не может совпадать с автором-творцом его, поскольку, автор и герой находятся в эстетической деятельности, в эстетическом «событии», диалоге [2: 82]. Вместе с тем, как пишет Бахтин, «человек есть условие возможности какого бы то ни было эстетического видения, все равно, находит ли оно себе определенное воплощение в законченном художественном произведении или нет, только в этом последнем появляется определенный герой<...>» [2: 86].
Фетоведы пишут о беззаветной любви Марии Лазич к Фету и о том, что любовь молодого Фета отступила перед прозаическим расчетом. Б.Я. Бухштаб своим риторическим вопросом «Не был ли Фет вообще способен только на такую любовь, которая тревожит воображение и, сублимируясь, изживает себя в творчестве?» говорит о том, что биографический факт – толчок к творчеству [3: 29].
Роман Фета с Марией Лазич кончился разлукой, за которой вскоре последовала смерть возлюбленной. Б.Я. Бухштаб совершенно справедливо пишет: «Воспоминание об этом трагическом романе во всю жизнь не утратило для Фета своей остроты, и ряд замечательных стихотворений связан с этим воспоминанием» [3: 30]. Мария Лазич стала для Фета-поэта, если воспользоваться определением Бахтина, тем «условием возможности эстетического видения», которое способствовало рождению его героя, вернее, его вечной героини.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: