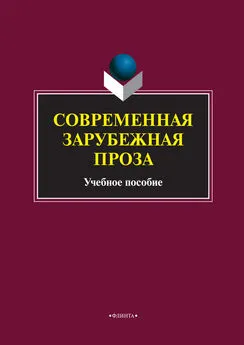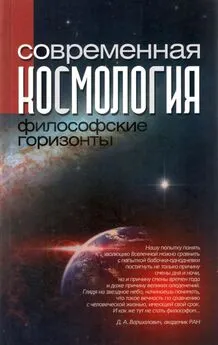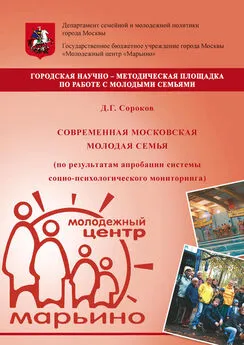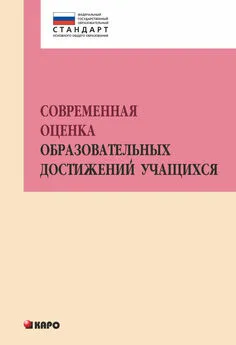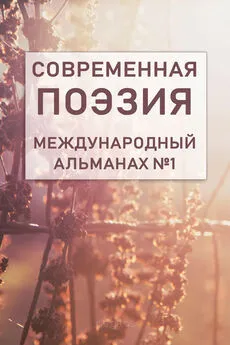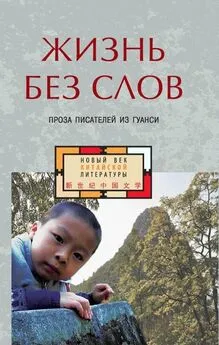Коллектив авторов - Современная зарубежная проза
- Название:Современная зарубежная проза
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ФЛИНТА
- Год:2015
- Город:М
- ISBN:978-5-9765-2180-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Коллектив авторов - Современная зарубежная проза краткое содержание
Учебное пособие представляет всемирный литературный процесс нашего времени в многообразии авторских идейно-художественных миров. Основное внимание уделено становлению современного романа в литературе Англии (Дж. Барнс, И. Макьюэн, М. Эмис), США (Дж. Барт, П. Остер, М. Каннингем), Франции (П. Киньяр, М. Уэльбек, Ф. Бегбедер), Германии и Австрии (П. Зюскинд, К. Рансмайр, Э. Елинек), Италии и Испании (У. Эко, А. Барикко, А. П. Реверто), Латинской Америки (Г. Маркес, В. Льоса) и других стран (Ж. Сарамаго, О. Памук, Х. Мураками).
Современная зарубежная проза - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Как и в остальных рассказах, здесь происходит роковая «встреча со злом», персонифицированным в образе мужчины, и главный герой вновь оказывается совершенно беззащитным. Во сне он бежит по людной улице, завернувшись в одеяло — этот образ очень точно передает ощущение слабости и уязвимости человека.
Произведения Милорада Павича представляют собой игровое пространство, в котором происходит свободное движение смыслов. Во всех трех рассказах присутствует мотив сна как иллюстрация барочной идеи «жизнь есть сон». Для писателя характерно обращение к мифологическим и библейским образам (потоп), а также к теме войны и смерти. Красной нитью через все рассказы проходит мысль о недолговечности всего прекрасного и беспомощности человека перед судьбой (хотя при всей драматичности описываемых событий автор сохраняет позицию отстраненности).
Но главное, что сближает тексты Павича с барокко — их формальная, эстетическая сторона. Павич — мастер словесных эффектов, детали в его произведениях самоценны, изощреннейшая техника подчас затмевает содержание. Для его прозы характерны выделяемые как отличительные признаки стиля барокко витиеватость, «плетение словес», контрастность, избыточная метафоричность и тяжеловесные перечисления. Все это позволяет говорить о поэтике барокко как совокупности художественно-эстетических и стилистических качеств, определяющих своеобразие произведений Милорада Павича.
1. Виппер Ю. Б. О разновидностях стиля барокко в западноевропейских литературах XVII века [Электронный ресурс]. URL: http:// www.philology.ru/literature3/vipper-90f.htm
2. Генис А. А. Последний византиец [Электронный ресурс]. URL: http://www.khazars.com /ru/
3. Грицанов А. А. Постмодернизм: энциклопедия [Электронный ресурс]. URL: http://www.infoliolib.info/philos/postmod/neobarocco. html
4. Карпентьер. А. Концерт барокко. М.: Радуга, 1988.
5. Павич М. Архипелаг Павич // Иностранная литература. 2002. № 2 [Электронный ресурс]. URL: http://magazines.russ.ru/ inostran/2002/2/pm.html
6. Павич М. Библиотека для талантливых читателей // Иностранная литература. 1997. № 8.
7. Синицкая А. В. Метафора как хронотоп [Электронный ресурс]. URL: http://krzizanovskij.narod.ru/slova_sin.html
8. Тамарченко. Н.Д. Теоретическая поэтика: понятия и определения [Электронный ресурс]. URL: http://www. infoliolib.info/philol/ tamarchenko/hr9.html
Наше время как литературная эпоха
А. В. Татаринов
Впервые за последние века литература оказалась в положении впавшей в немилость падчерицы, когда формальные родственники указывают ей на скромное, не самое светлое место и заводят длинные речи о кризисе, из которого уже не выбраться. Они готовы признать: было царство литературы, серьезной власти художественной словесности. Было, но прошло! В пространстве множества новаторских публицистических жанров, в контексте неизвестных ранее удовольствий и средств насыщения времени актуальными сюжетами не так уж много шансов у психологического романа или лирического рассказа.
Не способствует сохранению высокого статуса литературы и значительное число мастеров словесности, уставших от явления, которое за неимением лучшего слова принято называть «постмодернизмом». Литературоведы и критики часто образуют депрессивно настроенный хор, поющий о кончине великого реализма, об утрате национально ориентированных гениев, о недобросовестных играх, превращающих писателей новейшего времени в безнравственных экспериментаторов, управляющих «деконструкцией» и «корректирующей иронией», «кризисом метарассказов» и «эпистемологической неуверенностью».
Сейчас литература — вне центра эпохи. Она не там, где смотрят и слушают миллионы. Можно указать на Дж. Роулинг и Д. Брауна, П. Вербера и П. Коэльо, но массовость, в границах которой вращаются тексты указанных стратегов, лишь показывает, что это не совсем литература. Это нечто другое, требующее экранизаций и компьютерных игр, имитационной метафизики, механического мифологизма и обязательной проектности, включающей автора в объемные контексты купли/продажи .
Нет сейчас Байрона и Лермонтова, Флобера и Достоевского, Камю и Шолохова. Авторитеты уменьшились в размерах, а то и вовсе исчезли. Все литературные боги остались в прошлом. Ни один из художественных миров не прошел процедуру канонизации, и каждый остался относительным в ряду столь же относительных образов и моделей существования.
Иногда приходится слышать: самая значимая фигура современного литпроцесса — аргентинец Хорхе Луис Борхес. Он ушел в 1986 г., но метод его пребывания в границах словесности действует безотказно: версия сильнее истины, к тому же отсутствующей . Действительно, власть Борхеса — важная примета нашей эпохи: в пространстве культуры нет места унынию, но, интересуясь многим, почти всем — не верим ни во что, ибо даже богословие — область фантастической литературы . Это неверие — общая интуиция времени или мысль писателя? Или состояние читателя, скептически реагирующего на любые попытки автора нечто утвердить как существующее объективно?
У. Эко, один из координаторов современного гуманитарного движения, говорит об «отсутствующей структуре»: искать, но не находить — вот позитивный смысл ключевых культурных процессов. Чем больше приближаемся к Богу, истине и ядру существования, тем больше убеждаемся, что они не определимы, принципиально апофатичны — вплоть до исчезновения, самого настоящего отсутствия. Тут логика встречается с пустотой, в которой все возможно. Конечно, это не пустота нравственного падения (Запад хранит гуманизм!), а новый мир без априорно существующих смыслов, религиозно-философских прежде всего.
Жаль, что в этой пустоте (по-своему актуализирующей творчество) царит методологическая вялость. Когда-то за души читателей боролись классицизм и барокко, романтизм и реализм, натурализм и символизм, экзистенциализм и сюрреализм. Сейчас практически каждый писатель сам себе метод , но для единства литературного процесса, для выделения в нем доминант явно не хватает общего поля литературнотеоретической борьбы, которая могла бы способствовать здоровой централизации потоков словесности. Несколько иная ситуация в России, где есть и «новый реализм», и «новый модернизм».
Но пока стараемся говорить о времени без границ и национальной специфики. И закономерно отмечаем: поэзия, в массиве своем ушедшая в Сеть и размытая по разным порталам, перестала быть той силой, которая 50 лет назад собирала стадионы и казалась нашим предшественникам достойным конкурентом физики . Поэтов много, едва ли не каждый студент филфака может писать сносные стихи. Файлы персональных компьютеров терпеливых гуманитариев распухают от новых строк. Но — нет у этих творений общей жизни. Выделяются на общем фоне В. Емелин, Н. Краснова, А. Витухновская. Но разве могут создать памятник их стихотворения? А недавно почивший Д. Пригов или здравствующий Л. Рубенштейн — затмят ушедших в историю Ю. Кузнецова или И. Бродского?
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: