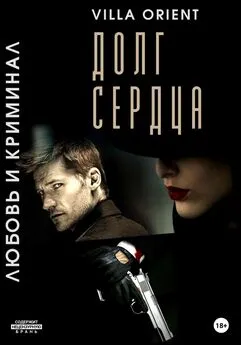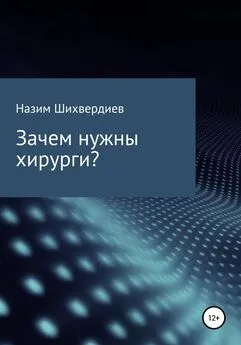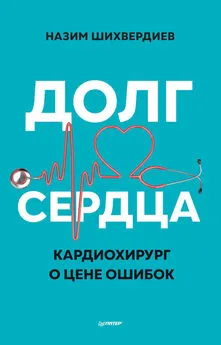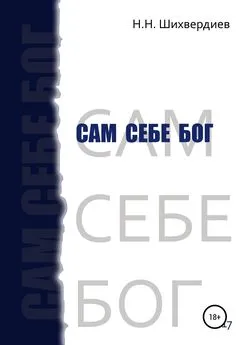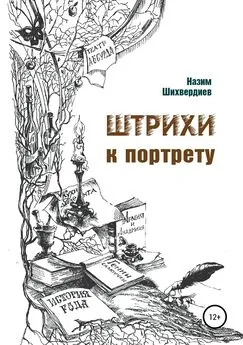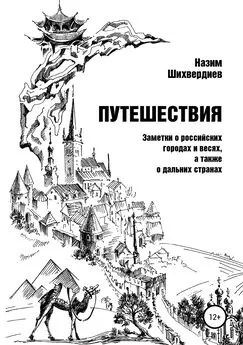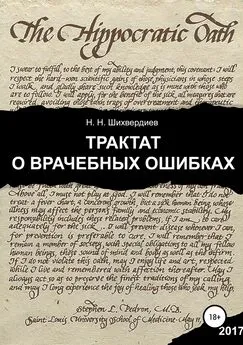Назим Шихвердиев - Долг сердца [Кардиохирург о цене ошибок] [litres]
- Название:Долг сердца [Кардиохирург о цене ошибок] [litres]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Издательство Питер
- Год:2021
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-00116-582-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Назим Шихвердиев - Долг сердца [Кардиохирург о цене ошибок] [litres] краткое содержание
В своей новой книге «Долг сердца. Кардиохирург о цене ошибок» автор делится профессиональным и жизненным опытом, интересными и трагичными случаями из врачебной практики, личными историями пациентов.
Врачебные ошибки – дело не только медицинского сообщества, но и большая социальная проблема, которая может коснуться каждого пациента. К сожалению, в нашей стране нет четких юридических критериев, чтобы определить, что считать врачебной ошибкой. И эту проблему необходимо решать.
«Долг сердца» – книга-размышление о степени ответственности врача за чужие жизни, о настоящем призвании и сложном этическом выборе. В формате PDF A4 сохранён издательский дизайн.
Долг сердца [Кардиохирург о цене ошибок] [litres] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В книге «Шкура на кону» Нассим Талеб сравнивает древних правителей с нынешними. В далекие времена они, затевая какие-либо политические действия, реально рисковали «своей шкурой». Не менее трети императоров и царей погибали на войне, сражаясь вместе со своим войском. Сейчас никто из правителей на войне не погибает. Даже их дети, как правило, избавлены от этой участи. Это не прибавляет ответственности за принятые решения. В экономике тоже за ошибки руководителей банков и финансовые промахи государственных деятелей расплачиваются не те, кто ошибся, а рядовые граждане-налогоплательщики. В этом вся разница. Когда на кону твоя собственная шкура или хотя бы твои собственные деньги, решения становятся значительно более взвешенными, чем когда ты ни за что отвечать не будешь.
Все ли так однозначно? Вред и польза
Вернусь к тому, с чего начал. Так ли все однозначно в вопросах ошибок? «Что русскому хорошо, то немцу – смерть» – старая поговорка, возникшая не на пустом месте. Даже в детских сказках об этом говорится. Вспомните «Вершки и корешки»: в одном случае выбрал «вершки» и наелся, в другом выбрал те же вершки, но остался голодным. В спорте – то же: заставил ошибиться соперника – выиграл. Тебе хорошо, кому-то плохо.
Хорошо или плохо, когда у человека что-то болит? Однозначного ответа нет. Существуют люди, у которых с рождения полностью отсутствует ощущение боли. И они очень несчастны. В одной американской семье было трое детей с такой патологией. Внешне они не отличались от своих сверстников, но отсутствие восприятия боли привело к тому, что дети, даже сломав руку или ногу во время игры, не обращали на это особого внимания и продолжали двигаться как ни в чем не бывало. В итоге одна из девочек погибла от травм, а мальчик стал хромым инвалидом с искривленным позвоночником. Впоследствии ему пришлось перенести несколько операций на опорно-двигательном аппарате, чтобы он мог свободно передвигаться.
Сейчас выяснилось, что отсутствие боли – это генетическая патология, передающаяся по наследству, и за нее отвечает мутация (изменения) всего в одном гене под названием SCN9A. Если же к этой ситуации подойти с другой стороны – научиться «выключать» ген SCN9A искусственно, то будет решена проблема с обезболиванием онкологических больных.
Жизненных ситуаций возникает множество, и не все они однозначны. В 70-е годы ХХ века моя мать поехала к родственникам в село в полусотне километров от Владикавказа. Они жили в большом собственном доме. Поздняя осень. Мать с хозяйкой дома сидят в кухне, разговаривают и топят печь. Родственница для растопки вырывает листы из какой-то книги и бросает в огонь. Будучи учительницей литературы, мать всю жизнь стремилась иметь дома хорошую библиотеку и никогда не жалела денег на книги. Она берет книгу, используемую для растопки, и в буквальном смысле впадает в транс. Это оказывается одним из томов полного собрания сочинений Шекспира. Малограмотная хозяйка с удивлением спрашивает: «Тебе что, эта книга нужна была? Там на чердаке их много. Можешь забирать с собой, пока я их все не сожгла».
Оказалось, что мамин двоюродный брат получил в годы Великой Отечественной войны ранение и стал инвалидом. Для инвалидов в СССР были определенные льготы. Можно было изредка покупать какие-то дефицитные товары. Дефицитом же в Советском Союзе было почти все. Книги – не исключение. Свободно купить можно было только труды классиков марксизма-ленинизма, но они мало кого интересовали. Дядя же покупал собрания сочинений разных писателей, читал их и складывал на чердаке, потому что его троих детей и жену книги не интересовали. Супругу, впрочем, заинтересовали, когда надо было найти бумагу для растопки печи.
С точки зрения моей матери, утрата полных собраний сочинений нескольких писателей была чуть ли не трагической ошибкой. По мнению же нашей сельской родственницы, никакой ошибки не было – было рациональное использование собственных ресурсов.
Ошибка ошибке рознь. Все дело в последствиях. Когда сжигают книги из личных собраний – это ошибка незначительная, когда уничтожают существующие в единственном экземпляре произведения искусства или памятники старины – все выглядит иначе. Но даже в последнем случае для людей, уничтожающих раритеты, это вообще не ошибка, а иногда даже цель.
Мысли других людей очень часто идут по своим каким-то путям, тебе не известным. Ты даже не предполагаешь, что одно и то же событие оценивается по-разному.
Расскажу историю из своей жизни, о которой мало кто знает. Как-то мне довелось оперировать очередного пациента с клапанным пороком. Технических проблем не было, но рана загноилась. К сожалению, такие вещи случаются даже при соблюдении всех правил асептики и антисептики в определенном проценте случаев.
Дело было летом, перед закрытием клиники на период отпусков. В таких случаях в Военно-медицинской академии была хорошая система: всех недолечившихся пациентов собирали в двух дежурных клиниках. Работали в них сборные команды врачей и медсестер с обязательным участием представителей тех клиник, откуда переводились пациенты, для того чтобы соблюсти преемственность. Нашего больного перевели в такой дежурный стационар, и я через день, находясь уже в отпуске, заезжал его посмотреть на перевязке. Все шло нормально, но требовалось длительное лечение. Я уехал с семьей на юг, а пациентом занимались наши врачи.
Потом мне по телефону сказали, что у него подозревают инфекционное поражение клапанного протеза. В такой ситуации консервативное лечение неэффективно и требуется замена протеза. Однако однозначного мнения о вовлечении в инфекционный процесс искусственного клапана сердца не было. К тому же в это время на рабочем месте находился наш шеф, возглавлявший тогда и клинику сердечно-сосудистой хирургии им. П. А. Куприянова, и всю академию, Юрий Леонидович Шевченко, который неоднократно лично осматривал пациента. По его мнению, в повторной операции нужды не было. Если бы я даже приехал и захотел прооперировать пациента, в такой ситуации это было невозможно. Пришлось бы не просто ослушаться непосредственного начальника, но и проигнорировать профессиональное мнение ведущего специалиста страны по этой проблеме. Кроме того, потребовалось бы вызвать из отпусков несколько человек из бригады, расконсервировать операционную и отделение реанимации. Разрешение на это мог дать только Ю. Л. Шевченко. В общем, моих полномочий явно не хватило бы.
К сожалению, ситуация развивалась по самому плохому сценарию и в конце концов пациент погиб. Была ли тут врачебная ошибка? При желании элементы ошибок можно найти всегда. Я за собой вины не чувствовал и не чувствую до сих пор. Однако эта история имела продолжение.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
![Обложка книги Назим Шихвердиев - Долг сердца [Кардиохирург о цене ошибок] [litres]](/books/1058291/nazim-shihverdiev-dolg-serdca-kardiohirurg-o-cene.webp)
![Андрей Ткачев - Темный призыватель. Исправление ошибок [litres]](/books/1062483/andrej-tkachev-temnyj-prizyvatel-ispravlenie-oshib.webp)
![Вячеслав Миронов - Особо ценный информатор [litres]](/books/1071136/vyacheslav-mironov-osobo-cennyj-informator-litres.webp)
![Диана Гэблдон - Написано кровью моего сердца. Книга 1. Перипетии судьбы [litres]](/books/1084788/diana-gebldon-napisano-krovyu-moego-serdca-kniga.webp)