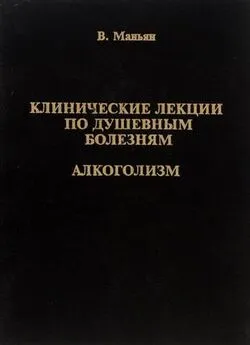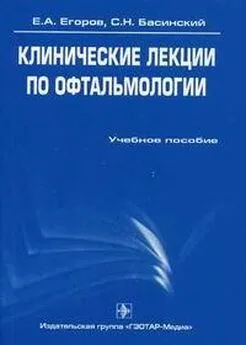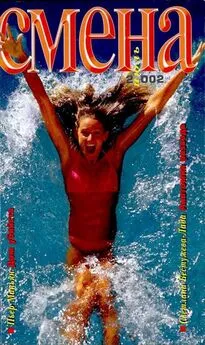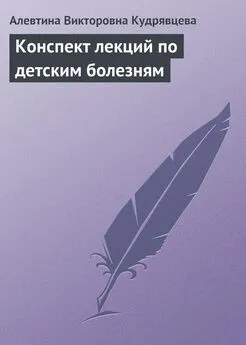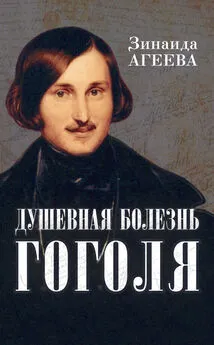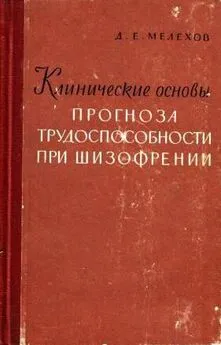Валантен Маньян - Клинические лекции по душевным болезням
- Название:Клинические лекции по душевным болезням
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Закат
- Год:1995
- ISBN:5-85379-002-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Валантен Маньян - Клинические лекции по душевным болезням краткое содержание
Magnan. L’Alcoolisme. Paris, 1874.
М.: Закат, 1995. — 427 с. — ISBN 5-85379-002-1.
Устарела ли эта книга, напечатанная впервые более ста лет назад? Больные, в ней описанные, ничем по существу от нынешних не отличаются; названия болезней отчасти переменились — хотя не настолько, чтобы, даже не имея специального образования, не понять, о чем идет речь в том или ином случае; изменилось, конечно, лечение, но это уже дело специальное. Терминология синдромов отличается от той, что принята сегодня.
Валантен Маньян (Valentin Magnan) (1835–1916) — французский психиатр. В 1867 году на открытии больницы Сан-Анне он был назначен врачом приемного отделения. В больнице Сан-Анне работал до конца своей карьеры. Изучал общий паралич, алкоголизм, алкогольные иллюзии. Результаты его исследований легли в основу книги «Общие соображения по наследственной глупости», опубликованную в 1887 году. В 1891 году Маньян издал книгу «Клинические лекции по душевным болезням».
Клинические лекции по душевным болезням - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Импульсивные расстройства, наблюдающиеся при эпилепсии, имеют характер фатальной непреодолимости, которая по своей силе далеко превосходит потребность в пьянстве у дипсомана, стойкое и часто столь упорное влечение к самоубийству или нападению на окружающих у депрессивных больных с галлюцинациями и бредом или, говоря в общем виде, импульсивный ряд расстройств всех прочих больных с психическими заболеваниями. Они обладают сверх того ужасными, непостижимыми для окружающих особенностями: полным помрачением сознания при их совершении. Дипсоман пытается противиться влечению, борется с ним ценой возникновения депрессии и уступает только после сопротивления, эпилептик, в отличие от него, нападает и убивает неосознанно и только по миновании приступа узнает о тех подчас трагических сценах, главным действующим лицом которых он был незадолго до этого. Если он помнит о своих расстройствах, то оказывается, что он в этот раз действовал, находясь во власти не эпилептического помрачения сознания, а иного болезненного процесса, который, как мы увидим впоследствии, может протекать одновременно с эпилепсией у одного и того же больного. В случаях этого рода имеется сочетание двух различных заболеваний, идущих параллельно одно другому и обнаруживающих свойственную каждому симптоматику.
Вы знаете, что эпилепсия — это пароксизмально текущий невроз, характеризующийся повторяющимися состояниями с потерей сознания, приступами, которые могут проявляться в виде судорожных припадков, вертижей, абсансов или эпилептического психоза (ларвированная эпилепсия). Болезнь эта — преимущественно наследственная и довольно часто, что бы не говорили по этому поводу, со сходной передачей признаков. Среди ее причин — алкоголизм, помешательство отца или матери, кровное родство родителей. В некоторых случаях, при соответствующем предрасположении, в качестве способствующих ее выявлению причин приводили также эмоциональные потрясения, особенно — связанные с аффектом страха, но случаи такого рода — и это надо заявить со всей определенностью — весьма редки, хотя родственники больных склонны настаивать на значении подобных, случайных, причин в возникновении их болезни. Я видел лишь несколько примеров такого рода. У одной из больных первый приступ возник в 1871 г., после неожиданного для нее орудийного выстрела: орудие стояло на уличной баррикаде, построенной рядом с дверью, за которой она пряталась. У другой первый приступ произошел после того, как рядом с ней с высоты пятого этажа упал каменщик. У обеих приступы случались в последующем с большой частотой и с трудом поддавались лечебному воздействию. Так как больной ничего не знает о происходящих с ним припадках, он иногда в течение многих лет пребывает в неведении относительно имеющегося у него страдания — до тех пор, пока оно не обнаружится в присутствии стороннего наблюдателя. Если к этому времени в его жизни произойдут какие-то из ряда вон выходящие события, то окружающие будут склонны связывать именно с ними и появление приступов, которые в действительности никак нельзя назвать для больного новыми.
Что происходит с больными непосредственно перед припадком? Последний может случиться совершенно неожиданным образом, но может и предваряться двумя очерченными рядами предвестников: одни коренятся в общем психическом состоянии больного, другие более интимно связаны с самим пароксизмом и являются внешним выражением неблагополучия той церебральной зоны, из которой в скором времени распространится эпилептический импульс. Это то, что мы называем аурой припадка.
Изменения настроения, предшествующие приступу, давно уже замечены теми, кто живет в тесном соседстве с эпилептиками. Больные делаются перед припадком подавленными, гневливыми, раздражительными, возбудимыми: малейшее противодействие им, самые незначительные трения вызывают с их стороны «ответные» оскорбления и насилие, иногда они впадают в состояние гнева и бешенства без всякой на то причины. Ближайшее окружение больного, предупрежденное этими сигналами, живет в ожидании припадка, избегает всяких конфликтов, любых споров с больным, удваивает меры предосторожности. Вне стен психиатрических больниц подобные смены настроения чреваты физическими столкновениями и другими прискорбными последствиями. Больные, на вид наделенные ясным сознанием, действующие как бы под влиянием охватившего их гнева, часто в таких случаях признаются впоследствии ответственными за свои поступки и подлежащими суду наравне с прочими. Бывает также, хотя значительно реже, что больные перед приступом, напротив, делаются экспансивны, всем довольны, веселы и благожелательны. У одного из таких больных подобное повышение настроения, наступающее у него практически перед каждым приступом, сопровождалось матримониальными притязаниями самого комического рода: довольно некрасивый, он делался в это время чрезвычайно кокетлив, самонадеян, дерзок в своих ухаживаниях — что тем больше бросалось в глаза, что находилось в резком контрасте с его обычной скромностью, сдержанностью и даже робостью в обращении с женщинами.
Аура, еще более определенный и надежный предвестник приступа, обнаруживает редкое многообразие у разных больных, но у одного и того же больного отличается, напротив, удивительным постоянством. Ее проявления, локализация и длительность идентичны при каждом приступе: появление ауры регулярно оповещает о приближении нового припадка.
Этот специфичный для эпилепсии феномен, эта неврологическая манифестация приступа заключается в расстройствах в двигательной или чувствительной области: как общего, так и местного свойства — или же в изменениях в интеллектуальной сфере: в соответствии с этим аура обозначается как моторная, сензитивная, сенсорная или интеллектуальная. У каждого из больных она, повторяю, имеет свой, отличный от других, вид, но постоянна у одного пациента. Это может быть ощущение воды, холода, дуновения ветра, общей дурноты, щекотки; один из больных сравнивал ее с болью, производимой дрелью, которую ему будто бы внедряют в желудок. Ее делят, как это давно уже сделал Delasiauve, на головную, глоточную, торакальную, абдоминальную и т. д. — в зависимости от органа, где она ощущается: в голове, шее, грудной клетке, брюшной полости или конечностях. Часть больных, предупрежденная таким образом о близости припадка, умеет предотвратить его: например, резко скручивая веревкой конечность, в которой появляется ауральное ощущение. Некоторым больным, как сообщает Tissot, удается даже полностью прекратить приступы — с помощью постоянно носимой перетяжки с ручкой: до тех пор, пока однажды они не дают застать себя врасплох, забыв или не успев вовремя вмешаться при появлении аурального ощущения.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: