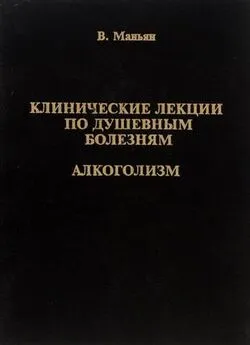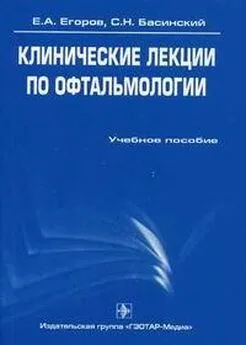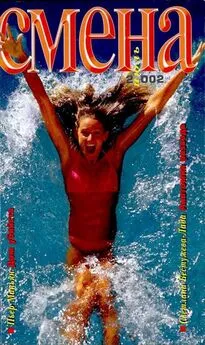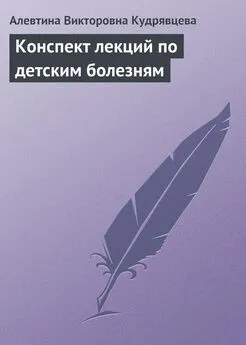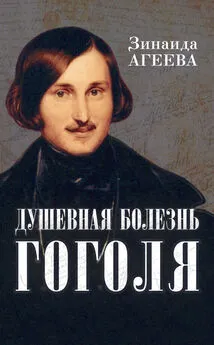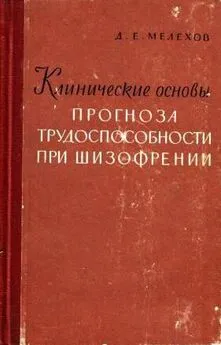Валантен Маньян - Клинические лекции по душевным болезням
- Название:Клинические лекции по душевным болезням
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Закат
- Год:1995
- ISBN:5-85379-002-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Валантен Маньян - Клинические лекции по душевным болезням краткое содержание
Magnan. L’Alcoolisme. Paris, 1874.
М.: Закат, 1995. — 427 с. — ISBN 5-85379-002-1.
Устарела ли эта книга, напечатанная впервые более ста лет назад? Больные, в ней описанные, ничем по существу от нынешних не отличаются; названия болезней отчасти переменились — хотя не настолько, чтобы, даже не имея специального образования, не понять, о чем идет речь в том или ином случае; изменилось, конечно, лечение, но это уже дело специальное. Терминология синдромов отличается от той, что принята сегодня.
Валантен Маньян (Valentin Magnan) (1835–1916) — французский психиатр. В 1867 году на открытии больницы Сан-Анне он был назначен врачом приемного отделения. В больнице Сан-Анне работал до конца своей карьеры. Изучал общий паралич, алкоголизм, алкогольные иллюзии. Результаты его исследований легли в основу книги «Общие соображения по наследственной глупости», опубликованную в 1887 году. В 1891 году Маньян издал книгу «Клинические лекции по душевным болезням».
Клинические лекции по душевным болезням - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
«Что с того, что она с собой разговаривает? — сказал муж одной из больных. — Она вон с утра до вечера землю копает».
Крестьянская психология и мировоззрение вообще свойственны французской (равно как и русской) культуре прошлого столетия: в этом постаграрном обществе, с возникшими в нем новыми, подчас непреодолимыми проблемами, патриархальный уклад жизни рисовался воображению золотым веком человечества. Между тем и само общество и характер труда в нем радикально изменились, прежние критерии неизбежно обесценивались, но Маньян, как и многие другие, этого не замечает. Традиционный крестьянский труд был действительно физиологичен, он предполагал гармоничное умственное и физическое усилие, давал удовлетворение, потому что весь цикл его осуществлялся одними руками и он возвращался к своему творцу результатами его деятельности: такой труд мог быть в какой-то степени мерилом гармоничности развития человека и, следовательно — его психического и физического здоровья, но перемены, происшедшие с развитием общества: известное разделение труда и отстранение труженика от результатов его деятельности — изменили характер трудовых процессов, обезличили их, сделали машинальными, автоматическими. Такой труд и тем более — его необходимый придаток, школьное обучение, вряд ли могут быть пробой на психическое здоровье, если такой тест вообще возможен — скорее, наоборот: успехи в машинально повторяемых операциях или в классном вызубривании материала требуют не столько здоровья, сколько совсем иных психических задатков. Этого-то и не видит Маньян, которому в детстве внушили понятие о труде как залоге всех жизненных успехов. Оно, может, и так, но и жизненные успехи, особенно, когда они выходят за рамки привычного, тоже ведь не от большого здоровья, а что называется «от лукавого».
Для нас сельски-патриархальный уклад жизни особенно важен еще и потому, что он определял мировоззрение и психологию не только французских психиатров прошлого века, но и врос глубокими корнями и в российскую психику и до сих пор живуч и силен в ней: поэтому отечественное отношение к разного рода психопатическим бунтам и «праздным» экстравагантностям так живо перекликается с маньяновским. Только самые последние поколения, с их так называемым американским образом жизни, начинают оттеснять старую модель мира на второй план и это воспринимается многими как семейный и общественный кризис — едва ли не национальная трагедия.
В Москве перемены чувствуются всего сильнее. Тот кто живет здесь достаточно долго, может рассказать, как все было. Лет 40–50 назад повсюду (местами еще и теперь), городское общежитие носило все признаки деревенского: посиделки перед подъездами, общественное мнение о каждом из жильцов, вполне крестьянские по своему характеру «гулянки» с распеванием песен на всю улицу, сельское гостеприимство и хлебосольство, пироги по воскресеньям или по праздникам, чистота в доме на манер деревенской горницы и т. д. Присутствовали и свои отчетливые особенности коллективного мышления — плохие или хорошие, другой вопрос: известный фаталистический, сторонний взгляд на все, что выходило за пределы двора и дома — не в том смысле, что оно было безразлично, но что находилось вне юрисдикции и разумения человека: для этого было всем ведавшее «начальство». Вера в доброго царя, олицетворявшего общественную необходимость, оставалась, вопреки очевидности, в душе очень многих — в него верили так же, как душевнобольной верит в сидящего в нем Создателя и Спасителя: в обоих случаях идея биологически детерминирована. Бессознательной или подсознательной стороной этого долготерпения и консерватизма был страх, что новое будет в любом случае хуже старого: скептицизм старый как мир и имеющий под собой веские основания.
Действительно, всякий распад общественных связей и устоев опасен — именно из-за неустойчивости человеческой психики, как индивидуальной, так и общей, чреват душевной патологией: также как отдельного лица, так и коллективной.
В этом свете консерватизм и близорукость Маньяна носят общечеловеческий, трансцендентальный и, сейчас бы сказали, экзистенциальный характер. Это старый как мир страх перед психическим заболеванием, перед начальным «грехопадением» человека, которое Христос может смягчить, но искупить не в состоянии. Страх этот меньше, когда жизнь людей неизменна, когда неколебимость ее форм узаконивает постоянно присутствующее в ней сумасшествие, но всякие потрясения человеческого бытия, все новое и неведомое, сразу же нарушает хрупкое равновесие, лишает мыслящего субъекта твердой почвы под ногами, выбивает и без того шаткие основания из-под его суждений, настроений и чувствований.
Сноски
1
Этот, внешне парадоксальный, факт развития алкогольного делирия в отсутствие нового злоупотребления алкоголем легко объясняется нарушением физиологического баланса, вызванным депрессивным приступом. Явления такого рода наблюдаются у алкоголика, много пившего в прошлом, когда он заболевает пневмонией, рожей и т. д. или переносит травму. Силы организма, противостоящие действию многолетней интоксикации, в этих ситуациях ослабевают, опоры равновесия — рушатся, развиваются психотические эпизоды. Всякая иная причина, ослабляющая больного, может привести к такому же результату. — Примеч. составителей французского издания.
2
По прошествии двух месяцев больной был выписан из больницы и смог вернуться к работе. После года хорошего самочувствия у него развился приступ меланхолии с ипохондрическим бредом. — Примеч. французских составителей.
3
Газета «Известия», 20.VII.94. — Примеч. перев.
Интервал:
Закладка: