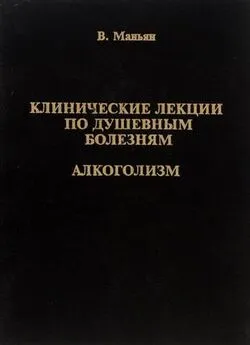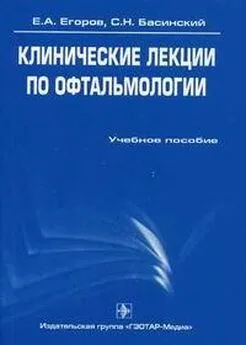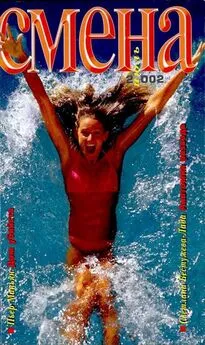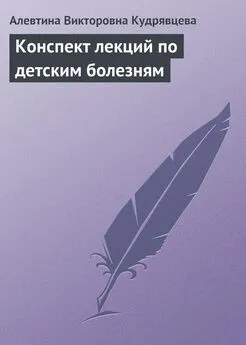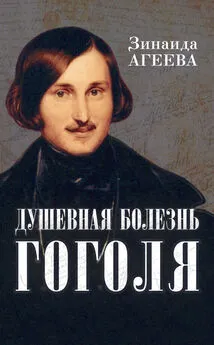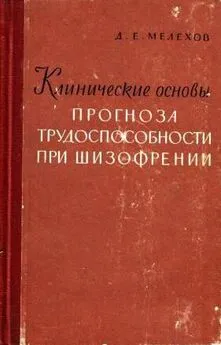Валантен Маньян - Клинические лекции по душевным болезням
- Название:Клинические лекции по душевным болезням
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Закат
- Год:1995
- ISBN:5-85379-002-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Валантен Маньян - Клинические лекции по душевным болезням краткое содержание
Magnan. L’Alcoolisme. Paris, 1874.
М.: Закат, 1995. — 427 с. — ISBN 5-85379-002-1.
Устарела ли эта книга, напечатанная впервые более ста лет назад? Больные, в ней описанные, ничем по существу от нынешних не отличаются; названия болезней отчасти переменились — хотя не настолько, чтобы, даже не имея специального образования, не понять, о чем идет речь в том или ином случае; изменилось, конечно, лечение, но это уже дело специальное. Терминология синдромов отличается от той, что принята сегодня.
Валантен Маньян (Valentin Magnan) (1835–1916) — французский психиатр. В 1867 году на открытии больницы Сан-Анне он был назначен врачом приемного отделения. В больнице Сан-Анне работал до конца своей карьеры. Изучал общий паралич, алкоголизм, алкогольные иллюзии. Результаты его исследований легли в основу книги «Общие соображения по наследственной глупости», опубликованную в 1887 году. В 1891 году Маньян издал книгу «Клинические лекции по душевным болезням».
Клинические лекции по душевным болезням - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Нетрудно предсказать реакцию общества на такого рода нелицеприятную критику. Клинический, пока что наиболее адекватный метод исследования больной психики (в этом Маньян был совершенно прав) оказался скомпрометирован и загнан назад в стены психиатрических лечебниц. Его место в обществе: вернее, место, на которое он рассчитывал — занял психоанализ, объяснявший малые, а затем и большие душевные расстройства невротическими функциональными срывами и реакциями, претерпеваемыми в ходе индивидуального опыта и развития. Психоаналитики и бред и галлюцинации склонны выводить не из материального страдания, не из реализации генетической возможности, а из конфликтов «Я» с бессознательным началом и с «супер-эго». Теория эта, в применении к причинам больших психических болезней, совершенно фантасмагорична и является своего рода психиатрической астрологией. Она имеет, правда, одно неоценимое преимущество сравнительно с классической психиатрией: «снимает» с человека угрозу наследственного фатума, а с человечества тяжкий груз предшествующего биологического развития и внушает ему ничем не оправданное, но столь необходимое спокойствие. Положительной его стороной, надолго закрепившей его место в медицине нынешнего столетия, явилось широкое распространение им психотерапии, которой пренебрегала психиатрия классическая и которая естественным образом вытекала из постулатов психоанализа. Ложные теоретические предпосылки, как известно, не всегда влекут за собой неправильные практические следствия: психотерапевтическое и в широком смысле средовое воздействие оказывается эффективным и подчас единственно возможным средством в случае статичных наследственных состояний, не обусловленных текущим болезненным процессом: стационарных картин «изъянов» нервной системы, которые нуждаются в своего рода внешних костылях, в сторонней психотерапевтической помощи. В последние десятилетия, впрочем, психоанализ сдает свои позиции — незаметно и очень медленно подвигается вперед так называемая биологическая психиатрия, специально изучающая патогенетические механизмы психических заболеваний; что же касается большой психиатрической теории, то она, по сути дела, повсеместно безмолвствует. Господствующая, например, в США и оттуда распространяющаяся по всему миру классификация психических болезней и, следовательно — психиатрических знаний отличается крайним прагматизмом и удивительной теоретической беспомощностью: она представляет собой не что иное как перечень патологических болезней и состояний, используемый единственно в практических целях и заведомо не претендующий на какие-либо обобщения: как список товаров в торговом каталоге. Действительно интересным в этом столетии были близнецовые исследования, подтвердившие роль генетических факторов в развитии психических болезней и личностных аномалий, и эпидемиологические обследования населения — подворные психиатрические обходы, документально подтвердившие факт чрезвычайного распространения психических расстройств в человеческом обществе.
Маньян, стало быть, был прав, когда считал, что генетически обусловленные психические расстройства и «отклонения», родственные душевным заболеваниям, широко распространены в человечестве Архаичным, совершенно не соответствующим смелости его работ и в его случае почти комичным было его отношение к описываемому им явлению — сугубо негативное и враждебное, заимствованное им из культуры прошлых столетий. Нетрудно доказать, что по своему мировоззрению Маньян был, как говорили раньше, «представителем» старого патриархального, преимущественно сельского уклада жизни, в котором не было места для личностных и поведенческих девиаций — особенно публично обнаруживаемых.
Действительно, крестьянские симпатии бросаются в глаза при чтении его историй болезни. Слово «достойный» — излюбленный его положительный эпитет (brave, digne), заимствованный, кстати, также едва ли не из феодального лексикона, применяется им только к крестьянам, иногда — ремесленникам, чей образ жизни и характер труда близки к первым. Мясник может быть у него brave, достойным, но рабочие все сплошь пьяницы — особенно, оторвавшиеся от дома, ищущие на стороне заработка. Об актере, пусть наивном и комичном, кочующем по стране с созданным им спектаклем и потешающим ту же деревенскую публику, Маньян говорит с не приличной в его устах язвительностью: как муравей о стрекозе в известной басне; революционеров же и разного рода пропагандистов он трактует как своих личных врагов: они в лучшем случае не ведают что творят, их следует поместить в психиатрические больницы: это все сплошь душевнобольные, «преследуемые преследователи» (нам это напоминает что-то, не правда ли?) Та же тенденция, тот же подход обнаруживается, если попытаться определить психический идеал Маньяна — образец психического здоровья, от которого он отталкивается, сравнивая с ним те или иные психические расстройства. Прямых описаний такого идеала нет (как и во всякой другой психиатрической работе), но его можно вычленить, подвергнув элементарному частотному словесному анализу те истории болезни (больных с хроническим бредом с этапным течением), где Маньян пытается доказать, что больные до развития у них заболевания были совершенно сохранны в психическом отношении.
Вот взятые наугад цитаты:
«Достойный крестьянин, трезвенник… Умная, энергичная, экономная, у нее хорошие руки… Хозяйство вела всегда самым образцовым образом… Оба работали с утра до ночи и воспитали сына, также примерного труженика… Хорошо ладят между собой, все подолгу жили в родительском доме, семья всегда была сплоченной, до сих пор только наш больной оставил родные места и не видится с родственниками… Прилежная, послушная, легко училась… Хорошо училась в школе…»
Работящие субъекты получают у Маньяна своего рода отпущение от психиатрических грехов — даже когда последние бросаются в глаза. Больная из набл. VI, жившая всегда крайне уединенно, дичившаяся людей, не знавшая развлечений: которая на вопрос, хорошо ли она жила прежде, отвечает, что была счастлива, потому что работать было «через край», признается им вполне здоровой, хотя он сам пишет о ней с добродушной иронией. Здоровый человек — это для него почти синоним труженика. Это безусловно крестьянский идеал духовного здоровья: так же, как внешняя красота для крестьянина, по Чернышевскому, определяется силой и дородностью человека, так и внутренняя красота его — в работоспособности и трудолюбии. Психиатры, работавшие в сельской местности, подтверждают это: отмечают большую снисходительность и терпимость населения даже к явным «странностям» — если сохраняется трудоспособность заболевшего.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: