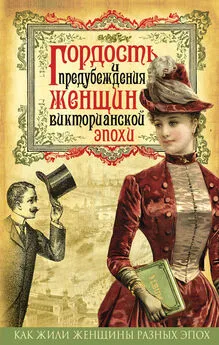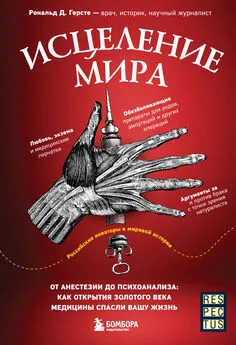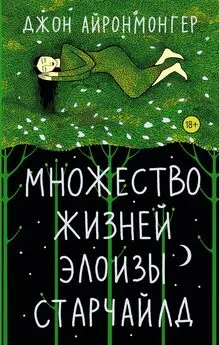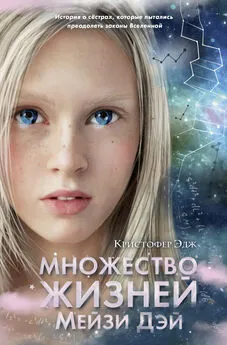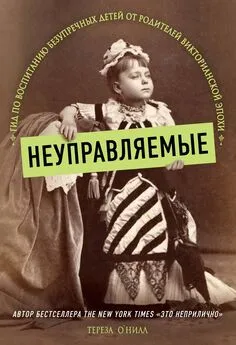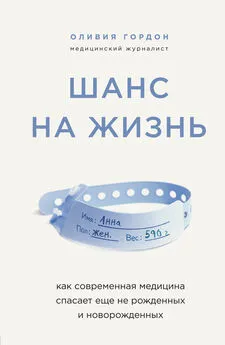Линдси Фицхаррис - Ужасная медицина. Как всего один хирург Викторианской эпохи кардинально изменил медицину и спас множество жизней
- Название:Ужасная медицина. Как всего один хирург Викторианской эпохи кардинально изменил медицину и спас множество жизней
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент 5 редакция
- Год:2017
- ISBN:978-5-04-097184-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Линдси Фицхаррис - Ужасная медицина. Как всего один хирург Викторианской эпохи кардинально изменил медицину и спас множество жизней краткое содержание
Ужасная медицина. Как всего один хирург Викторианской эпохи кардинально изменил медицину и спас множество жизней - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
23 апреля 1856 года пара поженилась прямо в гостиной Сайма в Милбанк-Хаус. Сестра Агнес Люси позже вспоминала, что это объяснялось нежеланием доставлять неудобство кому-то из квакеров, которые ощущали бы себя некомфортно на церковной службе. Шотландский врач и эссеист Джон Браун произнес тост в честь счастливой пары. Будущее их представлялось ярким – не в последнюю очередь потому, что звезда Листера только-только восходила в Эдинбурге. В своей речи Браун предвосхитил будущий успех молодого хирурга: «Листер – это тот человек, который, как я считаю, в профессии достигнет самых больших высот».
Вернувшись к работе в Королевском лазарете, Листер продолжал сталкиваться с теми же проблемами, что и в госпитале Университетского колледжа в Лондоне. Пациенты умирали от гангрены, рожи, сепсиса и пиемии. Разочарованный тем, что большинство хирургов признали инфекцию неизбежной и неодолимой, Листер начал брать образцы ткани у пациентов для изучения под микроскопом. Он хотел разобраться, что происходит на клеточном уровне.
Как и многие из его коллег, Листер признал, что нагноение ран часто предшествовало сепсису. Как только это происходило, у пациента развивалась лихорадка. Основным фактором, связывающим эти два явления, оказалось тепло. Воспаление – это локализованный жар, тогда как лихорадка – жар системный. В 1850-х годах, однако, профилактика затруднялась, потому что раны редко оставались чистыми – до такой степени, что многие врачи считали, что «доброкачественный гной» всегда сопровождает процесс заживления. Кроме того, в медицинском сообществе обсуждался вопрос о том, является ли воспаление на самом деле «нормой» – или же это патогенный процесс, с которым необходимо бороться.
Листер был полон решимости лучше понять механизм воспаления. Какова связь между воспалением и больничной гангреной? Почему одни воспаленные раны гноятся, а другие нет? В письме к отцу он говорил: «Мне кажется, что ранние стадии [воспаления] не были как следует изучены – а ведь мы могли бы понаблюдать переход от здорового покраснения к воспалению».
Контроль воспалительных процессов был ежедневной болью для хирурга. Современники верили, что рана может зажить одним из двух способов. Идеальная ситуация – если рана закрылась «с первой попытки»: таким термином хирурги пользовались для обозначения соединения краев раны с минимальным воспалением и нагноением. Проще говоря, рана заживала чисто, или «нежно», как говорили тогда. В качестве альтернативы рана может закрыться «со второй попытки» – путем развития новых грануляций или рубцовой ткани; длительный процесс часто сопровождался как серьезным воспалением, так и нагноением. Раны, зажившие со второй попытки, с большей вероятностью подвергались заражению, то есть «кисли».
Методы ухода за открытыми ранами были неисчислимы, и это показывает, как много сил хирурги тратили в попытках понять и контролировать воспалительный процесс, нагноение и лихорадку. Осложняло дело то, что развитие септических инфекций порой представляется произвольным и непредсказуемым. Некоторые раны заживали начисто при незначительной медицинской помощи, в то время как другие оказывались смертельными, несмотря на то, что их тщательно обрабатывали – путем частых перевязок и удаления омертвевших тканей. Многие хирурги обратили внимание на то, что простые переломы (без нарушения целостности кожного покрова) часто заживают без происшествий. Это укрепило идею о том, что нечто проникало в рану извне – что, в свою очередь, породило популярный «метод окклюзии», при котором врач ограничивал доступ воздуха к ране.
Метод окклюзии подразумевал несколько способов закрыть рану – каждый хирург выбирал тот, который нравился больше. Самое простое – полностью покрыть рану сухой повязкой, такой как наружная мембрана кишечника теленка или же клейкая лента. Если рана заживала «с первой попытки», этот метод давал успешный результат. Но в случае заражения гнилостный яд (или бактерии, как мы знаем сегодня), не способный выйти наружу, уходил в кровоток пациента, и начинался сепсис. Чтобы избежать этого, некоторые хирурги постоянно открывали рану, чтобы очистить ее – такой метод назывался «окклюзия с повторным открытием». Роберт Листон на самом деле осудил эту практику в 1840-х годах, отметив, что «пациент находится в состоянии постоянного возбуждения, и часто, изнуренный страданиями, частыми сменами повязок и лихорадкой, превращается в очередную жертву экспериментального лечения».
Многие хирурги были против метода окклюзии, потому что он закрывал жар внутри раны, что противоречило теории о контроле воспалительного процесса. Они также полагали, что раненое место не должно быть закрыто полностью, поскольку повязки пропитаются «гнилью, зараженной кровью и вонью», отчего рана, в свою очередь, «скиснет». Сайм предпочитал закрывать рану, оставляя небольшое отверстие для дренажа. После этого он покрывал все, кроме этого отверстия, широким куском сухого ворса. Дренаж не трогали в течение примерно четырех дней, а ворс удаляли и меняли каждый второй день, пока рана не заживала.
Некоторые хирурги предпочитали «водяные перевязки» или влажные бинты, которые, по их мнению, противодействовали появлению жара, сохраняя рану прохладной. Другие пытались промывать место ранения и даже погружали его в воду, которую постоянно приходилось менять. Надо сказать, что этот метод оказался наиболее успешным, поскольку непреднамеренно удалял отмершие ткани практически в момент появления – однако все это было дорого и неудобно; к тому же существовали разногласия относительно того, должна ли вода быть горячей, прохладной или холодной.
Чистота в госпитале – один из факторов роста числа заболеваний, тогда и речи не шло о том уровне гигиены, который мы ожидаем от больниц сегодня.
Самая большая проблема заключалась в том, что, хотя большинство хирургов пытались предотвратить заражение открытых ран, не существовало консенсуса относительно того, почему это происходило. Некоторые считали, что причиной служил какой-то яд в воздухе, никто не мог сказать ничего дельного о природе этого яда. Другие полагали, что заражение открытых ран может происходить повторно и спонтанно, особенно если пациент уже ослаблен болезнью.
Почти все в медицинском сообществе признавали, что в последние годы одним из факторов, способствующих росту заболеваемости, служат жилищные условия. По мере роста городского населения в XIX веке в больницы поступало все больше пациентов из самых разных слоев. Также верно, что после появления анестезии в 1846 году хирурги охотнее брались оперировать те случаи, которые не решились бы раньше. При таком количестве пациентов в палатах содержать больницы в чистоте становилось все труднее. Автор важного учебника, Year-Book of Medicine, Surgery, and Their Allied Sciences , посчитал необходимым проконсультировать читателей по этой теме: «Бинты и инструменты, которые использовались для гангренозных ран, не должны (если это возможно) использоваться повторно; бинты, белье или одежда не должны готовиться или храниться в комнатах, где лежат инфицированные пациенты. Частая смена постельного белья и одеял также полезна в тех случаях, когда инфекция уже вспыхнула».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
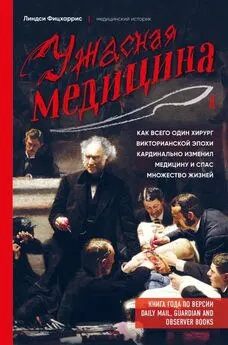
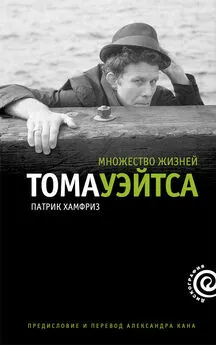
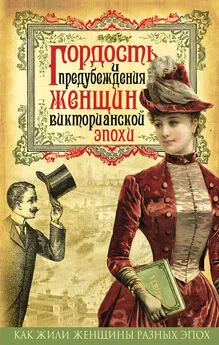

![Брендон Сандерсон - Стивен Лидс и множество его жизней [сборник litres]](/books/1072886/brendon-sanderson-stiven-lids-i-mnozhestvo-ego-zhizn.webp)