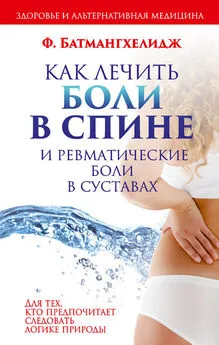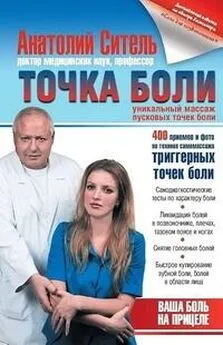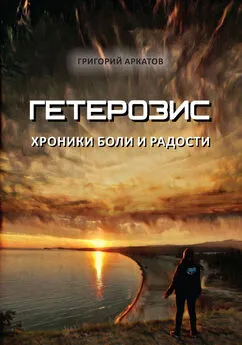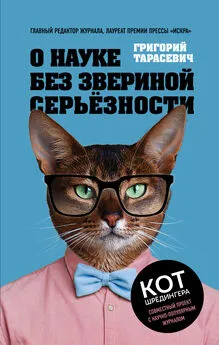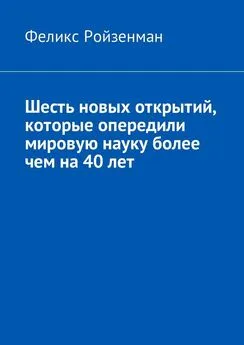Григорий Кассиль - Наука о боли
- Название:Наука о боли
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:1975
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Григорий Кассиль - Наука о боли краткое содержание
nofollow
AutBody_0DocRoot
Наука о боли - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
При сильных болях нижняя губа прикушена, верхняя плотно прижата к десне, зрачки расширены. Прикусывание губы — наиболее характерный признак подавляемых болей. При этом нередко слегка растягивается рот и судорожно сокращаются мышцы век. Сильные длительные боли вызывают своеобразные изменения мимики лица, лицевые мускулы то сокращаются, то расслабляются. Глаза и рот меняют выражение в зависимости от усиления или ослабления боли. Иногда рот перекошен, глаза плотно закрыты.
Постепенно в страдания вовлекаются мышцы всего тела. Человек не находит себе места. Он делает ненужные движения, не знает, как превозмочь боль, какое положение придать телу. И вдруг, когда страдание становится невыносимым, мышцы сразу расслабляются, сердце начинает едва биться, лицо бледнеет и наступает особое состояние слабости и подавленности, когда организм уже не в состоянии отвечать на боль. Сильная боль вскоре вызывает крайнее снижение или упадок сил, но вначале она возбуждает организм человека, подстегивает его, вызывает усиление всех его функций.
Остро протекающая боль сопровождается обычно криком, который является результатом судорожного сокращения дыхательных мышц. Крик возник из первоначального резкого движения — выдоха. Он сделался сигналом опасности, призывом к помощи, превратился отчасти в орудие защиты, так как мог испугать нападающего.
От боли кричат почти все животные, даже самые молчаливые. Никогда не приходится слышать, чтобы кролики в обычных условиях издавали какие-нибудь громкие звуки, но во время физиологических опытов они иногда начинают кричать. Дарвин рассказывает, что лошади при нападении волков издают громкие и своеобразные крики отчаяния.
Как образно выразился один ученый, первый крик боли, раздавшийся в первобытных джунглях, был в то же время первой мольбой о медицинской помощи.
Некоторые физиологи пытались объяснить крик самозащитой организма. Они утверждали, и, быть может, не без основания, что крик — и притом длительный, характерный для боли,— является помимо всего прочего болеутоляющим средством. Он облегчает и успокаивает болевое ощущение, отчасти еще потому, что способствует накоплению углекислоты в крови.
По-видимому, избыток углекислоты в какой-то (вероятно, очень незначительной) степени действует наподобие наркоза, оглушает мозг, успокаивает его, притупляет болевую чувствительность.
После сильного, долго не прекращающегося крика кожа головы, лицо и глаза обычно краснеют в связи с тем, что обратный отток крови от головы был задержан вследствие бурного и резкого выдыхания. Глаза же краснеют от обильного истечения слез.
Люди, в отличие от животных, плачут. Эта способность человека ставит его в особое положение по сравнению со всеми другими живыми существами, населяющими Землю. Известно немало рассказов о плачущих кошках, собаках, лошадях и обезьянах. Но все они относятся больше к области литературных домыслов, чем науки. Способность выражать свои чувства плачем возникла у человека, как думает Дарвин, уже после того, как он оторвался от человекоподобных обезьян.
Существует определенное различие между слезами, капающими из глаз, и плачем. Слезы отделяются почти у всех видов животных, начиная с амфибий. Плачет же только человек. Любопытнее всего, что проблема плача, столь тесно связанная со всей нашей психической жизнью, почти совсем не изучена. Люди плачут и при радости и при горе, плачут при боли, плачут при наслаждении. Некоторые заболевания центральной нервной системы сопровождаются плачем. И в то же время как мало мы знаем о механизме плача. Еще в 1963 г. швейцарский офтальмолог Ринтелен признавался, что ничего не может сказать о физиологическом значении плача.
Известно только, что в возникновении плача важную роль играет вегетативная нервная система, в первую очередь ее парасимпатический отдел. В головном мозгу существуют три взаимосвязанных центра плача: высший корковый, промежуточный в ретикулярной формации и исполнительный в области Варолиева моста.
Каждый по личному опыту знает, что боль нередко сопровождается плачем. Надо полагать, что это — не только эмоциональный, вызванный возбуждением коры головного мозга, аффективный плач. Вероятно, плач, вызванный болью, имеет сложное происхождение, и задача его чем-то облегчить болевое страдание.
В самом раннем возрасте дети "не плачут ни от боли, ни от огорчения. Слезы начинают скатываться по щекам только тогда, когда возраст ребенка достигает 2—3 месяцев. Зато в дальнейшей своей жизни дети и взрослые нередко плачут. Впрочем, слезы у людей, вышедших из детского возраста, принято считать признаком слабости и отсутствием мужества.
Слезы в сочетании с продолжительными выдыханиями и короткими судорожными вдохами, вскрикиваниями и стонами дают картину рыдания. Дарвин утверждает, что он наблюдал рыдающего ребенка, когда ему было 138 дней; до этого возраста дети никогда не рыдают.
Плач, по мнению Дарвина, вероятно, является результатом приблизительно такой цепи: дети, когда они голодны или испытывают какое бы то ни было страдание, громко кричат, подобно детенышам большинства других животных, отчасти призывая родителей на помощь, а отчасти потому, что всякое усилие служит им облегчением. Продолжительный крик неизбежно ведет к переполнению кровеносных сосудов глаза, что сначала сознательно, а потом вследствие привычки, приводит к сокращению мышц вокруг глаза для защиты их. При этом рефлекторно раздражаются и возбуждаются слезные железы. Опыт бесконечного числа поколений связывает страдание с отделением слез, в результате чего образуется условно-рефлекторная связь. Человек кричит, стонет, плачет, чтобы облегчить боль, а отчасти и успокоить, отвлечь, затормозить кору головного мозга.
Глава 15. Пути и возможности обезболивания
История борьбы человека с болью уходит своими корнями в глубь веков, к эпосу героических сказаний прошлого, к древним мифам и полузабытым преданиям. По пути ошибок, неудач, случайных наблюдений, мистических и религиозных заблуждений и, наряду с ними, эпохальных открытий шло наступление на боль. И лишь в XIX веке, когда учение о хирургической анестезии с триумфом распространилось по всему земному шару, сметая противодействие, фанатизм, невежество, косность, традиции и привычки,— наметились контуры полной победы над болью и медицина подошла к решению самой трудной задачи проблемы обезболивания — к возможности регулировать болевое восприятие.
Вопреки широко распространенному мнению, обезболивание — это вовсе не уничтожение, не полная ликвидация одной из важнейших анатомических и физиологических систем в организме. От чувства боли нельзя безнаказанно освободиться, так же как нельзя без ущерба для здоровья лишиться зрения, слуха, обоняния, осязания, вкуса. Нормальная жизнедеятельность человека и животных требует сохранности всех чувств. Какова же в таком случае конечная цель обезболивания, т.е. устранения боли, если она из сигнала опасности превратилась в жестокого, изнуряющего врага, способного довести человека не только до болезни, но и до смерти? Цель эта научиться блокировать болевые ощущения, получить возможность управлять ими, смягчить или снимать боли, если их сигнальное значение потеряло в том или ином случае свой биологический смысл. Цель эта стоит перед врачом не только в ту минуту, когда он рассекает живые ткани или, закончив операцию, отправляет больного в палату, а потом обследует его, перевязывает, снимает швы. Она стоит перед ним, когда больной корчится от почечной или печеночной колики, страдает или стонет от мышечных судорог, язвенных или раковых болей, приступов стенокардии.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
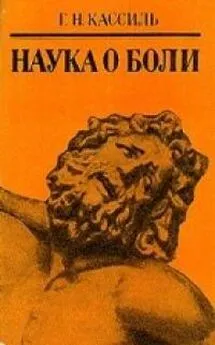

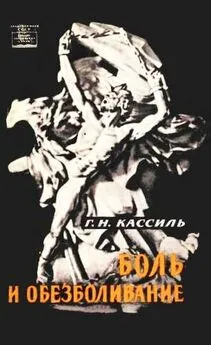
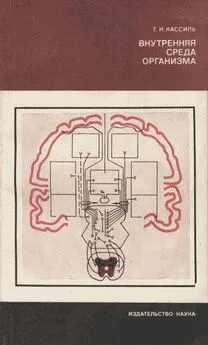
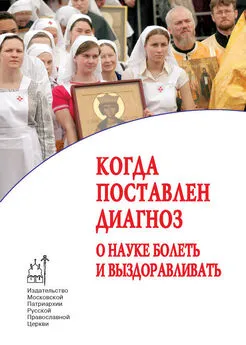
![Ник Ортнер - Живи без боли [Как избавиться от острой и хронической боли с помощью техники таппинга] [litres]](/books/1076303/nik-ortner-zhivi-bez-boli-kak-izbavitsya-ot-ostroj.webp)