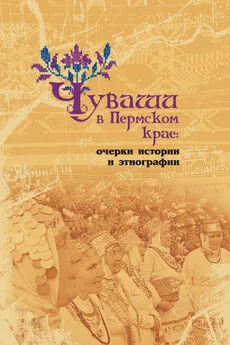Михаил Супотницкий - Очерки истории чумы (фрагменты)
- Название:Очерки истории чумы (фрагменты)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Михаил Супотницкий - Очерки истории чумы (фрагменты) краткое содержание
Фрагменты двухтомной монографии "Очерки истории чумы", описывающие картины наиболее ошеломляющих чумных эпидемий и пандемий на протяжении истории.
Очерки истории чумы (фрагменты) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Бактериоскопически найдены похожие на чумные палочки в большом количестве в мезентеральных железах и меньше в крови и в селезенке. Сделаны посевы — получена чистая культура чумных палочек. В заключение акта данный случай определен как чумная септицемия.
Вскрытие производил врач Шипилов.
2) 15 сентября 1921 г. в анатомическом покое чумного городка вскрыт в присутствии лаборанта Левашова и японских врачей Койдо и Мураками труп китайца, доставленный того же числа в 8 часов утра с угла Суйфунской и Нагорной улиц. Труп свежий, хорошо упитанный, конъюнктива склер гиперемирована; вокруг ротовой полости кровянистое выделение. Слева шейная железа увеличена, пастозной консистенции; другие железы едва прощупываются. Левое легкое на всем протяжении сращено с костальной плеврой крепкими спайками; почти вся верхняя доля его на ощупь плотна, при разрезе хрустит и из бронхов выделяется гнойная масса, цвет ее серовато-желтого цвета, непроходима для воздуха. Перибронхиальные железы увеличены. Правое легкое свободно, в верхней доле его имеется уплотненный фокус в стадии гепатизации, величиной с игральную карту, и другой — величиной в грецкий орех, но более плотный. Такой же плотный фокус, величиной с куриное яйцо, имеется и в нижней доле; цвет и состояние ткани на разрезе в этих фокусах таковы же, как и верхней доле левого легкого. Сердце увеличено; сердечная мышца дрябла, розово-матового цвета; клапаны аорты и легочной артерии, а также и интима их, резко гиперемированы с наличием кровоизлияний; интима аорты резко шероховата. Селезенка немного увеличена; ткань ее консистенции — пюре темно-малинового цвета. Печень в состоянии паренхиматозного перерождение. Почки увеличены, отечны, границы между слоями сглажены, капсула отделяется с тру-дом.В желудке небольшое количество жидкой пищевой кашицы зеленовато-желтого цвета, слизистая его гиперемирована, в подслизистом слое масса экстравазатов различной величины. В кишках (тонких и толстых) масса экстравазатов различной величины, слизистая кишок серовато-розового цвета. Мезентеральные железы увеличены, ткань их инфильтрирована; в различных участках брыжейки имеются кровоизлияние величиной в лесной орех. Взяты пробы из легких, селезенки, печени, почки, крови, из содержимого желудка, кишок, мезентеральной, перибронхиальной и шейной желез.
Бактериоскопически во всех органах найдены чумные палочки, так что данный случай нужно рассматривать, как чумную септицемию .
Вскрытие производил врач Шипилов.
Больше ни чумных трупов, ни чумных больных, ни чумных крыс не было обнаружено, не было открыто никаких тайных кладбищ. Выбрасывание трупов на улицы и пустыри, однако, продолжалось по-старому. За время с 18 сентября по 1 ноября было подобрано 13 трупов из тех же районов, из которых доставлялись ранее чумные трупы; все трупы были вскрыты в анатомическом покое чумного госпиталя и подверглись бактериологическому исследованию; результаты получались отрицательные. Чума окончилась.
Характер эпидемии . Горючим материалом («сухими дровами») для чумы было китайское население, исключительно питавшее и поддерживавшее пожар эпидемии в городе. Однако никаких эмпирических доказательств какой-то «этнической избирательности» легочной чумы тогда получено не было. Китайцы, жившие в европейских семьях (лакеи, повара), не были затронуты болезнью. Подавляющее большинство погибших от чумы принадлежало к китайской бедноте, жившей в ночлежках, казармах, в обстановке невероятной скученности и грязи.
Касаясь вопроса заразительности легочной чумы, П.В. Захаров с соавт. отмечают, что ответ на него не так прост, как это на первый взгляд кажется. Многие факты, выявленные при изучении эпидемии легочной чумы во Владивостоке, говорят о ее высокой заразительности. Однако они также дают основание утверждать, что между фактом высокой заразительности легочной формы чумы и фактом ее малого распространения лежит нечто третье , проходя через которое, высокая степень заразительности чумы все же давала «медленное горение» такого многочисленного и компактно проживающего населения, как Владивостокские китайские кварталы.
Казалось бы, пребывание одного-двух больных легочной чумой в казарме с нарами в два-три этажа на сотни людей, должно было дать только один результат: по крайней мере, десятки больных и трупов через неделю. Однако на деле все было иначе. Через тот или иной промежуток времени трупы выбрасывались из казарм, а китайцы продолжали жить в этих казармах-ночлежках. Сотни китайцев термометрировались ежедневно специальными отрядами русских врачей после каждого случая, но вспышки болезни не было. В то же время говорить об их невосприимчивости к чуме нет никаких оснований.
Возможно, среди китайцев срабатывал исключительно интуитивный способ защиты от чумы. В инкубационном периоде больной легочной чумой, безусловно, заразителен, но не в такой степени, когда болезнь приобретает манифестный характер. Естественно, когда окружающие замечают у соседа по нарам признаки болезни, они от него уходят, вернее, прячут его в какое-то укромное место, либо выгоняют на улицу, где несчастный и умирает. Но, возможно, существуют и другие объяснения «медленного горения» эпидемии легочной чумы во Владивостоке, так как все сказанное выше о течении эпидемии, заразительности больных с легочной чумой и способах ее распространения, в той или иной степени приложимо только к первым 9 неделям эпидемии. Что касается последних 14 недель, то этот период эпидемии (ее «хвост») не поддается объяснению на основе вышеизложенных соображений — эпидемия легочной чумы развивается вяло, тягуче, скачками. Несомненно, как это мы попытались показать в очерке XXIV, известны далеко еще не все закономерности в развитии эпидемий легочной чумы. Поэтому любые объяснения или даже гипотезы, могут оказаться очень полезными при накоплении новых фактов.
В.П. Захаров выдвинул свое объяснение странной эпидемиологии легочной чумы во Владивостоке, не подрывающее существующее и сегодня положения, что «без лечения от легочной чумы не выздоравливают». Он считал, что наряду с легочной (вернее, бронхо-пневмонической) чумой «gravis» , стоит чума такой же формы, но «minor» . По его мнению, если бы такая форма заболевания чумой среди людей действительно существовала, то случаи нахождения в подозрительной мокроте чумных палочек без последующего летального исхода их носителя имели бы простое и ясное объяснение.
Из общего числа 2295 человек, находившихся в госпиталях Владивостока, Никольска и Сучанских копей, только немногим меньше 40% приходится на долю Владивостока, тогда как из общего числа умерших от чумы — 227 человек, в самом Владивостоке умерло 209 человек, т.е. на Владивосток, пришлось 92,1%, на Никольск — 4,4%, на Сучанские копи — 3,5% общего количества погибших от чумы. В среднем один умерший от чумы приходится на 10 человек, помещенных в госпиталя в связи с эпидемией; тогда как:
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:






![Михаил Супотницкий - Очерки истории чумы. Книга II. Чума бактериологического периода [без иллюстраций]](/books/1084186/mihail-supotnickij-ocherki-istorii-chumy-kniga-ii.webp)
![Михаил Супотницкий - Очерки истории чумы. Книга I. Чума добактериологического периода [без иллюстраций]](/books/1084187/mihail-supotnickij-ocherki-istorii-chumy-kniga-i-ch.webp)