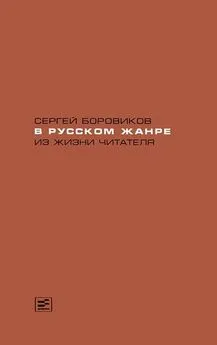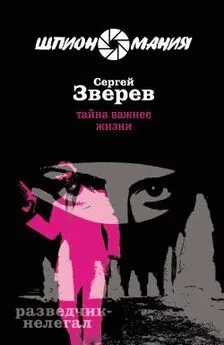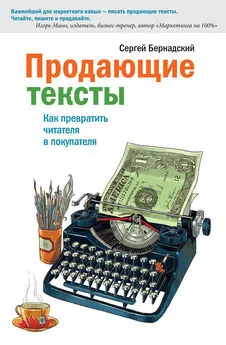Сергей Боровиков - В русском жанре. Из жизни читателя
- Название:В русском жанре. Из жизни читателя
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Время
- Год:2015
- ISBN:978-5-9691-0852-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сергей Боровиков - В русском жанре. Из жизни читателя краткое содержание
В русском жанре. Из жизни читателя - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Случайно ли, что Катаев в романе «За власть Советов» (после переработки — «Катакомбы») взял одной из сюжетных линий создание комиссионного магазина как места явки подпольщиков?
Во-первых, здесь была возможность немало строк уделить различным товарам. Во-вторых, правоверный писатель хотел на этой истории показать всю пропасть между торговлей советской и торговлей несоветской. Колесничуку, которому поручили быть хозяином магазина, «очень трудно было примириться со своей презренной профессией «“частного» торговца”. <���… > Он с детства ненавидел и презирал лавочников? самый факт, что он сделался лавочником, всё время раздражал его. Невозможно было успешно торговать и наживать барыши, не обманывая и не прибегая к мелкому ежедневному мошенничеству, а на это он не был способен».
Но представленная картинка лопается подобно тому, как лопнула коммерция Колесничука, который не ведал, как следует обращаться с векселями — понятия о векселях не имел! — и его надули.
Картинка, на советский взгляд, и смешная, и как бы поучительная, только в неё не верится. Колесничук вырос и сформировался в огромном торговом городе ещё до революции, а главное, служил там бухгалтером в Чаеуправлении до угара нэпа, во время и после угара, и не мог ничего не ведать о векселях. Это, конечно, сказка для советских школьников.
Герои повести В. Катаева «Растратчики» (1928) бухгалтер Филипп Степанович и кассир Ванечка одержимы пьяной мыслью, непременно «обследовать» в Ленинграде бывших графинь и бывших княгинь. И Ванечка наконец встречает «княжну».
Она «сидела вся закутанная в персидскую шаль, положив ногу на ногу, курила папироску и смотрела на него слегка прищуренными черкесскими глазами…». «А княжна, скрестив на груди под шалью ручки и вытянув вперёд тесно сжатые длинные ноги в нежнейших шёлковых чулках и лаковых туфельках, держала в слегка усатом ротике папироску и шурилась сквозь дым черекесскими многообещающими глазами».
Добавим, что «княжна» Ирен то и дело декламирует стихи: трижды Блока, трижды Северянина, забытый нынче романс «Отдай мне эту ночь… Забудь, что завтра день», кричит водителю: «Шофёр на острова! Шофёр на Елагин остров»…
Что же это у нас получается?..
Да ничего, это я так.
Есть ещё в «Растратчиках» и эпизодический колченогий человек, по фамилии Кашкадамов, у которого одна рука и одна нога — искусственные, уполномоченный с удостоверением загадочного Цекомпома, аферист, с лёгкостью наведший страх на московских кутил.
Как-то так кажется, что Иван Пырьев и Михаил Ромм успели замолить грехи «Братьями Карамазовыми» и «Обыкновенным фашизмом».
Почему именно Пырьев и Ромм? Иван Пырьев (1901–1968) был удостоен Сталинской премии шесть раз. Много. Его одногодок Михаил Ильич Ромм (1901–1971), в нашем либеральном сознании, разумеется, находится по другуюсторону. Однако, сталинских премий сколько? Целых пять премий у Ромма. У Довженко две, так же, как у Александрова, Эйзенштейна. У Пудовкина три. Впрочем, и у Райзмана шесть, но из них две за удачные оперативные документальные ленты и одна за постыдного «Кавалера Золотой Звезды», до чего Пырьев и Ромм не опускались.
Зачем я об этих премиях, которые, как известно, без личного участия их учредителя не присуждались? Затем, что говорим об их времени, в данном случае времени Пырьева и Ромма. Ещё? Сравнивая их послужной список, можно заметить, что именно они по части поощрений шли почти «ноздря в ноздрю» с небольшим опережением у Пырьева. У него три ордена Ленина, у Ромма — два, народным СССР Пырьев стал в 1948 году, Ромм в 1950-м и т. д. Ну и в соответствии с личными наклонностями, Пырьев получил пост гендиректора «Мосфильма», а Ромм профессорскую кафедру. То, что учеником Пырьева был Эльдар Рязанов, а Ромма Тарковский и Шукшин, говорит о том, что оба были мастерами не только на съёмочной площадке. Между прочим, оба мечтали экранизировать «Войну и мир».
Правда, отличия есть. Во-первых, как ни покажется на первый взгляд странным, но у Пырьева конкретных «культовских» грехов несопоставимо меньше, чем у Ромма. Ни в одном своём фильме, даже и там, где поют «Когда нас в бой пошлёт товарищ Сталин», он не отступил от изображения — как, это другое дело — но всё же народной, а неполиткремлёвской жизни, и не вывел на экраны ни Ленина — Сталина, ни мерзких ренегатов в гнусных пенсне с козлиными бородками.
Во-вторых, вся «лакировка действительности» в его картинах, была всё-таки, и я в том убеждён, своеобразно искренним художественным манифестом.
Тогда как снявший классическую «Пышку», Михаил Ильич никак не по зову сердца делал — я имею в виду даже и не «Ленина в Октябре» и «Ленина в 1918 году», а снятые после великой «Мечты» откровенно конъюнктурные ленты «Русский вопрос», «Секретная миссия» и какую-то серую (хотя и в цвете), но словно и не им снятую, костюмную дилогию про адмирала Ушакова.
Но сейчас я о другом, о постсталинском движении сталинских любимцев. Доживи Алексей Толстой до «оттепели», было бы ему в 1956 году всего лишь 73 года, и ох, чего бы он только не успел сочинить плохого про Сталина! Ведь и Шолохов вписал антикультовские страницы в «Они сражались за Родину».
Евтушенко когда-то написал: «могу представить всё, / Но Маяковского в тридцать седьмом представить не могу».
Красиво. Почему именно его? Потому, что он верил в идеалы революции, а тут товарищ Ежов?
А Пастернак? Не в счёт, потому что не верил в идеалы революции и ему не в чем было разочаровываться? Нет, не то. Даже Ильф дожил до 37-го, а Петров так и жил далее. Не то.
В недавно вышедшем тысячестраничном томе «Между молотом и наковальней. Союз писателей ССП, Документы и комментарии», — «песнь песней» для того, кто пытается понять, что такое были советские писатели — из самых неожиданных для меня оказалось сказанное Михаилом Пришвиным. «Из спецсообщений секретно-политического отдела ГУГБ СССР «О ходе Всесоюзного съезда советских писателей»: «М. М. Пришвин: Всё думаю, как бы поскорее уехать, — скука невыносимая, но отъезд осложняется: становлюсь на виду — дали портрет в “Вечёрке”, берут интервью, Находятся десятки поклонников — Динамов, Ставский. Ставский даже настойчиво просил выступить: “Надо, — говорит — Михаил Михайлович, немножко встряхнуть съезд”. Я ему ответил на это: “Надо-то надо, да обидно вот, что в числе пятидесяти двух писателей для меня не нашлось всё-таки места в президиуме”. Всё время чувствую от этого какую-то нехорошую горечь».
Это Пришвин-то? Отшельник, схимник и — думы о портрете в «Вечёрке» и месте в президиуме…
Перечитывал «Поднятую целину». Конечно, это не бездарная поделка, как нынче в запале кое-кто утверждает. Соцзаказ — несомненно. На сто процентов. Но и в первой, ещё крепко написанной книге, я всё ждал, когда же проклюнется автор «Тихого Дона»? Но нет даже слабого отблеска красок, хотя бы отзвука интонации из «Тихого Дона», словно бы разная рука писала эти романы.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: