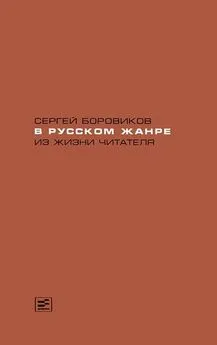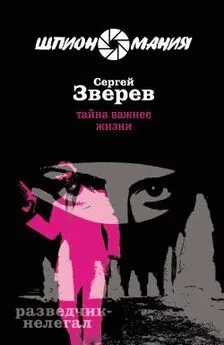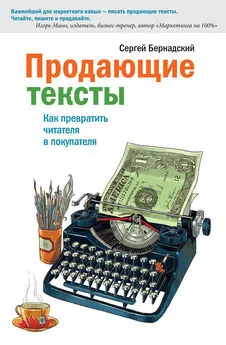Сергей Боровиков - В русском жанре. Из жизни читателя
- Название:В русском жанре. Из жизни читателя
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Время
- Год:2015
- ISBN:978-5-9691-0852-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сергей Боровиков - В русском жанре. Из жизни читателя краткое содержание
В русском жанре. Из жизни читателя - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Скачал видеоролик с песней из кинофильма «Ночь над Белградом» в исполнении Татьяны Окуневской. Видел её фильмы, читал и даже рецензировал её мемуары «Татьянин день», словом, сколько помню, всегда ценил её талант и красоту. Здесь же что-то особенное. Поглядев и послушав, понимаешь, почему Тито от неё с ума сошёл: «Небо Хорватии милое…» голос с какой-то невероятной смесью военного «славянского» патриотизма и сексуальности. А глаза, рот, жесты! Чем же, я спрашиваю, наша Окуневская была плоше Марлен Дитрих?
Только спросить некого — разве что на могилку к Кремлёвской стене сходить.
Тогда крупные драматические актрисы и актёры прекрасно пели, при этом не выставляя себя певцами. Ольга Андровская, Сергей Мартинсон, Александр Борисов, Борис Чирков. И сейчас, конечно, поют. Только — это, видимо, у меня уже возрастное отношение — не так поют. В больших залах с целыми концертами выступают, с гастролями ездят. Красавцы — Гусева, Дятлов и другие. Многие другие. И романсы, и Окуджаву, и которые песни о главном. Скучно, пресно, псевдо. Тут как-то Валентин Гафт со слезами вспомнил песню из кинофильма «Иван Никулин русский матрос», да и как удержаться от слёз, едва задребезжит тенорок Бориса Чиркова: «На ветвях израненного тополя…».
В тексте песни «Ночь над Белградом» (слова Бориса Ласкина) со временем почему-то строку «Небо Хорватии милое» изменили на «Небо Белграда милое», а ещё я наткнулся на исполнение песни Эдитой Пьехой. Лучше бы не натыкался.
Не знаю, насколько типична в советском театре пара: муж-главреж, жена-драматург. Во всяком случае, Елизавета Максимовна Бондарева — бывшая провинциальная актриса Елизавета Циммерман, сделавшись женою главного режиссёра, открыла в себе талант драматурга.
Актёр Юрий Каюров вспоминал: «’’Соперницы”, “Хрустальный ключ”, “Чайки над морем”, “Друзья мои” — вот пьесы, ею написанные, Бондаревым поставленные, нами сыгранные по сто и больше раз каждая. А что? Публика ходила и ходила в наш театр, никто силой не загонял».
Силой не силой, но каждый сознательный саратовец хоть по разочку, но их видел. А уж «Чайки над морем», если не путаю, и триста представлений выдержали, о чём сообщали афиши. Так было как-то распределено в провинциальных театрах в известных пропорциях: русская классика, советская классика, зарубежная классика, и — что-то оригинальное, местное.
До приезда супругов Бондаревых Саратовский драмтеатр в этом отношении бедствовал: на весь город был один-единственный драматург Смирнов-Ульяновский. Псевдоним его курьёзен: до 1924 года провинциальный журналист Смирнов подписывался Смирнов-Симбирский. Основным событием его жизни стало то, что он был делегатом 3-го Съезда комсомола, где слышал историческую речь Ленина «О задачах союзов молодёжи». Валентин Александрович в печати и на встречах с читателями часто и охотно рассказывал прежде всего об этом, а не о созданных им пьесах, которых было всего две: «Сын Отечества» (о Радищеве) и «Великий демократ» (о Чернышевском). Но несмотря на всю их идеологическую выдержанность, не только работникам театра, но даже и обкомовцам желалось увидеть на саратовской сцене что-нибудь такое поближе, поживее, повеселее. А Елизавета Максимовна могла написать обо всём — колхозниках, пограничниках, военных моряках.
Саратов был не первым и не последним городом четы Бондаревых. Курск — Чкалов — Бузулук — Ташкент — Владивосток — Куйбышев.
Видимо, наступал день, когда на 301-е представление «Чаек над морем» уже невозможно было продать ни одного билета, и тогда паковались чемоданы. Такая вот страница истории советского театра.
Когда я ежедневно вижу в телевизоре, как две молодые девки с бессовестными глазами, объявив, что нет на свете ничего важнее мужской силы, дают слово пожилому господину в кресле, со сладкой улыбкою вещающему о том, что и в 70 лет сексуальная жизнь мужчины должна быть полноценной и нельзя «предпочитать Достоевского сексу даже и в 74 года», при этом девки и старичок с особым вкусом то и дело произносят слова «потенция» и «эрекция» (передача затеяна, разумеется, для впаривания каких-то снадобий), я вспоминаю больничную палату, где пожилой дядя Коля, услышав, как кто-то из молодых однопалатников в беседе срифмовал — «так — кутак», сказал:
— И-и, милый — какой там кутак! Мы с бабушкой в него играем: на чью сторону упадёт, тому и за хлебом идти.
2011
В РУССКОМ ЖАНРЕ — 43
Давно не перечитывал «Тараса Бульбу». Повесть как-то зависла в моём непрестанно обновляемом чтением других произведений представлении о Гоголе. Причина, думаю, в том, что самый текст в памяти невольно заслонялся с детства знакомым сюжетом, — вплоть до обронённой люльки. И напрасно не перечитывал. А может быть, и к лучшему — в других произведениях всё реже удаётся неожиданно вздрогнуть от поразительных и потрясающих слов.
Сейчас же я о другом, о чём, конечно же, и до меня писали, — но не могу же я попытаться в связи с этим небольшим наблюдением приблизиться к Эвересту, нет, лучше сказать к Казбеку того, что написано о «Тарасе Бульбе». В первых строках первой главы сказано о сыновьях: «Крепкие здоровые лица их были покрыты первым пухом волос, которых не касалась бритва».
И вот прошла лишь ночь, и наутро собирающиеся с отцом в Сечу бурсаки преобразились — здесь шаровары шириною в Чёрное море, но даже и вот: «Их лица, ещё мало загоревшие, казалось, похорошели и побелели; молодые чёрные усы теперь как-то ярче оттеняли белизну их…».
Гоголь ошибся?
Но Гоголь никогда не ошибался. Он просто вообразил вчерашних бурсаков уже козаками, а уж если шаровары в Чёрное море, так и чёрные усы вмиг вырастут.
Ещё раз прошу извинения за то, что кто-то это уже давно заметил и до меня напечатал.
Я владею письмом по старой орфографии. Не благодаря филфаку, где был спецкурс старославянского — так тогда переименовали церковно-славянский, и его-то я как раз не знаю. А по той старой, упразднённой в 1918 году орфографии, отмену которой не могли простить большевикам Бунин и Репин. В период увлечения поэзией Серебряного века я переписывал в тетрадки целые сборники стихов, которые удавалось добыть на короткий срок. Помню богатое издание «Будем как солнце» Бальмонта и квадратные, в бумажных обложках сборники Игоря Северянина.
Бунин в период жизни с Цакни в Одессе не раз жалуется в письмах на живущего в их доме нахального греческого мальчишку Юрия Морфесси — будущего «баяна» кабацко-цыганского репертуара. Вера Николаевна в «Жизни Бунина» пишет, что в эмиграции они встречались. Трудно вообразить эту встречу.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: