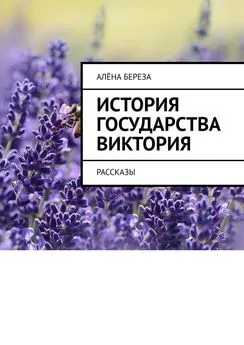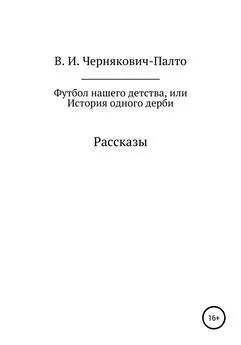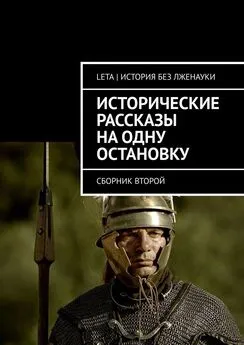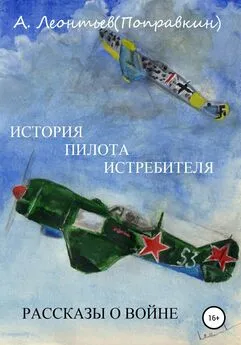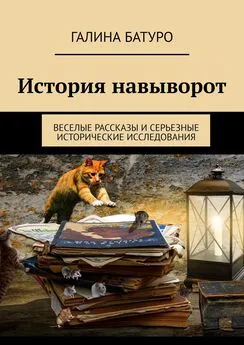Ефим Добин - История девяти сюжетов [рассказы литературоведа]
- Название:История девяти сюжетов [рассказы литературоведа]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Детская литература, Ленинградское отделение
- Год:1990
- Город:Ленинград
- ISBN:5-08-000278-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Ефим Добин - История девяти сюжетов [рассказы литературоведа] краткое содержание
История девяти сюжетов [рассказы литературоведа] - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
«Из хороших фамилий был Шванвич», подпоручик 2-го гренадерского полка.
Взятый в плен Шванвич упал перед самозванцем на колени, обещался ему верно служить и за это был прощен. Пугачев пожаловал его атаманом, велел остричь «в кружок» по-казацки и приказал дать «к его атаманству принадлежащую мужичью и разного звания толпу».
Шванвич составлял передаваемые в осажденный Оренбург послания русские и немецкие, «с большим титулом письма и манифесты варварские» (то есть от царского имени). Пусть читатель не удивляется, что Шванвич составлял и немецкие манифесты: в среде высших гражданских и военных начальствующих лиц было полным-полно немцев. Это началось еще при Петре I и усилилось при его преемниках.
Из шести планов «Капитанской дочки» в трех главным героем должен был стать Шванвич.
Столичный офицер, он послан в отдаленную крепость «за буйство». Его окружает некоторый романтический ореол человека строптивого, не ладящего с начальством.
Натура активная, он не попадает в плен к Пугачеву, а «предает ему крепость», «делается сообщником». Командует отрядом восставших, «ведет свое отделение» в Нижний Новгород, «предводительствует шайкой», напоминая этим Дубровского.
В первых же планах возникают наметки любовной сюжетной линии. Появляется имя Марьи Ал. Шванвич выступает ее защитником, что естественно для героя романа: «является к Марье Ал. — спасает семейство, и всех».
Возникают отдельные «кирпичики» сюжетного здания. Они перемещаются, вступают в разные сочетания, отбрасываются, возвращаются в измененном, иногда до неузнаваемости, виде и так далее. «Из затемнения», как выражаются кинематографисты, выступают в воображении автора отдельные куски, звенья повествования.
Пока это сплавится в продуманное, стройное, ясное целое, понадобятся немалые усилия и напряженные поиски.
Трижды берет Пушкин «на пробу» шванвичевский сюжет и в конце концов отбрасывает его.
Он отказывается от мысли сделать положительным героем дворянина, перешедшего в пугачевский лагерь. Это вызвано глубокими причинами.
Пушкин не сочувствовал таким людям, как Шванвич. Его страшил крестьянский мятеж. «Не приведи бог видеть русский бунт — бессмысленный и беспощадный», — говорит молодой герой романа. Так же думал и Пушкин.
Не будем торопиться осуждать его за эту мысль. Приведенные слова процитировал — и сочувственно процитировал — не кто иной, как В. И. Ленин.
В «Проекте программы нашей партии», написанном в 1899 году, через шестьдесят с лишним лет после появления «Капитанской дочки», Ленин указывает на наличие революционных элементов в крестьянстве и вместе с тем на политическую неразвитость и темноту крестьян. И подводит итог:
«Мы… нисколько не стираем разницы между «русским бунтом, бессмысленным и беспощадным», и революционной борьбой…»
Бессмысленная беспощадность неизбежно проявлялась в стихийных восстаниях низов. Доведенные до отчаяния, они без разбору мстили дворянам, чиновникам, офицерам.
Пушкин был свидетелем одного из таких бунтов, вызванного зверским режимом аракчеевских «военных поселений». В 1831 году он писал своему другу П. А. Вяземскому:
«…Ты, верно, слышал о возмущениях новгородских и Старой Руси. Ужасы. Более ста человек генералов, полковников и офицеров перерезаны в Новгородских поселениях со всеми утончениями злобы… 15 лекарей убито; спасся один при помощи больных, лежащих в лазарете… четверили одного генерала, зарывали живых и проч.».
Ничуть не смягчая красок, рисует Пушкин кровавые эпизоды пугачевщины в «Истории Пугачева» и «Капитанской дочке».
К какому же выводу он приходит?
Осудить пугачевский бунт? Объявить его отъявленным преднамеренным злодейством?
Так утверждали все правительственные источники. Но для Пушкина эта позиция неприемлема. Он и не взялся бы ни за историю пугачевщины, ни за «Капитанскую дочку», если бы брал на веру реакционные толки, если бы им не руководило стремление глубоко, беспристрастно, справедливо разобраться в сущности грозного и могучего восстания.
Пушкин хотел уразуметь прежде всего причиныпугачевщины. Вся первая глава «Истории пугачевского бунта» посвящена его предыстории. Читателю сразу же дается сдержанный и немногословный, но как нельзя более ясный ответ на два вопроса:
Почему возникло пугачевское движение?
Почему оно приняло такие кровавые формы?
Пушкин изучил дело яицких казаков — именно они первыми примкнули к Пугачеву. Царские чиновники притесняли их безо всякой оглядки на закон: удерживали жалованье, накладывали самовольные налоги, нарушали старинные права рыбной ловли.
Начались казацкие возмущения. Генералы Потапов и Черепов прибегли «к силе оружия и к ужасу казней».
Что оставалось делать казакам?
Они еще питали надежду, что в Петербурге, у царского трона найдут управу на притеснителей. По-прежнему продолжались попытки «довести до сведения самой императрицы справедливые свои жалобы». Однако казацких посланцев постигла жестокая кара. В Петербурге они были схвачены, «заключены в оковы и наказаны как бунтовщики».
Одна лишь попытка жаловаться на притеснения была расценена как бунт.
Все же казаки упорно продолжали настаивать на отрешении членов канцелярии и выдаче задержанного жалованья.
Генерал-майор Траубенберг выступил против них с войском и пушками, приказывая разойтись. Казаки не послушались. «Траубенберг велел стрелять; казаки бросились на пушки». По этому одному можно судить, до какого отчаяния они были доведены.
Траубенберг был убит у ворот своего дома, вполне заслужив свою участь. Членов канцелярии посадили под стражу, и этой мирной мерой казаки ограничились. Вновь были отправлены выборные в Петербург, «дабы объяснить и оправдать кровавое происшествие».
Разумеется, это были пустые надежды. В жарком сражении с крупным отрядом генерал-майора Фреймана казаки потерпели поражение. Началась свирепая расправа. Зачинщики бунта наказаны были кнутом; больше ста человек сосланы в Сибирь; остальные отданы в солдаты.
Все это происходило в 1771 году. Наружный порядок был восстановлен. Но «тайные совещания происходили по степным уметам и отдаленным хуторам. Все предвещало новый мятеж. Недоставало предводителя. Предводитель сыскался».
Не прошло и двух лет, как вспыхнула пугачевщина.
Жестокости восставших были спровоцированы долголетними и безнаказанными мучительствами со стороны властей — и местных и правительственных.
Таков главный вывод Пушкина.
Пушкин не умалчивает о свирепствах, совершенных восставшими. Но не упускает ни единой возможности описать неимоверные зверства усмирителей.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
![Обложка книги Ефим Добин - История девяти сюжетов [рассказы литературоведа]](/books/1098085/efim-dobin-istoriya-devyati-syuzhetov-rasskazy-litera.webp)

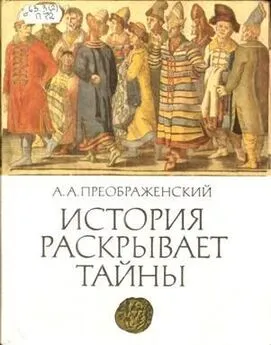
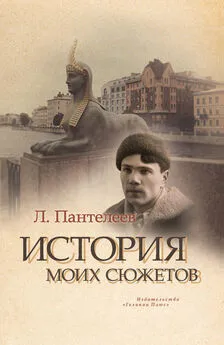
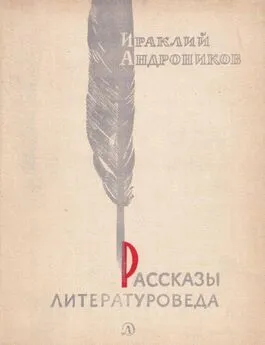
![Елизавета Драбкина - История одного карандаша [Рассказы]](/books/1099920/elizaveta-drabkina-istoriya-odnogo-karandasha-rassk.webp)