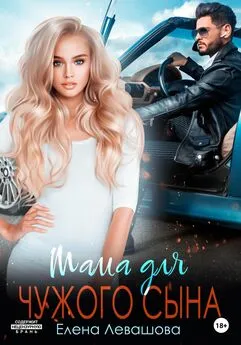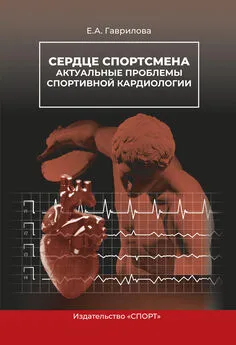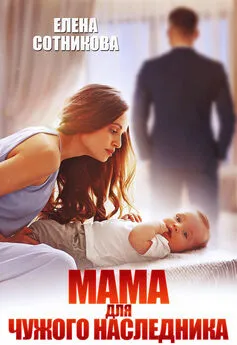Елена Андрущенко - Властелин «чужого»: текстология и проблемы поэтики Д. С. Мережковского
- Название:Властелин «чужого»: текстология и проблемы поэтики Д. С. Мережковского
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Водолей
- Год:2012
- Город:Москва
- ISBN:978-5-91763-12
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Елена Андрущенко - Властелин «чужого»: текстология и проблемы поэтики Д. С. Мережковского краткое содержание
Один из основателей русского символизма, поэт, критик, беллетрист, драматург, мыслитель Дмитрий Сергеевич Мережковский (1865–1941) в полной мере может быть назван и выдающимся читателем. Высокая книжность в значительной степени инспирирует его творчество, а литературность, зависимость от «чужого слова» оказывается важнейшей чертой творческого мышления. Проявляясь в различных формах, она становится очевидной при изучении истории его текстов и их источников.
В книге текстология и историко-литературный анализ представлены как взаимосвязанные стороны процесса осмысления поэтики Д.С. Мережковского, показаны возможности, которые текстология открывает перед тем, кто стремится пройти путь от писательского замысла до его реализации, а иногда и восприятия читателем.
Властелин «чужого»: текстология и проблемы поэтики Д. С. Мережковского - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
«Если, по слову Достоевского, „красота спасет мир“, то это и значит: мир спасет Мать» (413).
Изложение древних верований, в центре которых стоит образ Матери, завершается главами XXXVII–XL. В них предание как бы перелагается языком художественных откровений:
«„Die Mütter, Mütter! Матери, Матери!“ — повторял с удивлением Гёте, прочитав однажды у Плутарха об Энгийонских Матерях и глубоко задумавшись, как будто вспоминая что-то или прислушиваясь к чему-то внутри себя, точно к замирающему гулу камня, брошенного в бездонный колодезь» (Plutarch., Marcel., XXVII. — A. Dietrich, Mutter Erde, 120).
Ссылка, которую дает Д. Мережковский, источником слов Гёте не является. Слова приводятся по излюбленной его книге «Разговоры Гёте с Эккерманом». Приведенный фрагмент представляет собой свернутую запись Эккермана от 10 января 1830 г.:
«…я вынужден был просить Гете о кое-каких пояснениях. Но он, по обыкновению, замкнулся в таинственности и, глядя на меня широко раскрытыми глазами, только повторял:
— Да. Матери… Звучит необычайно!
— Могу вам открыть лишь одно, — сказал он наконец, — я вычитал у Плутарха, что в Древней Греции на Матерей взирали как на богинь. Это все, что мною заимствовано из предания, остальное — я выдумал сам».
Далее создается сложный образный комплекс, в котором «слово» Гёте отождествляется со словом Фауста, затем предъявлено во фрагменте из «Мистического хора» пятого акта его трагедии.
«„Die Mütter! Mütter! — 's klingt so wunderlich!
Матери! Матери! — как это странно звучит!“ —
скажет Фауст, перед тем, чтобы "спуститься или подняться", — где низ и верх, неизвестно, — туда, где Матери. Сколько их? Гёте не знает; мы знаем: Три. Но гимном Одной кончается "Фауст":
Jungfrau, Mutter, Konigin,
Gottin, bleibe gnadig!
Дева, Мать, Царица,
Милостивой будь! —
молится, пав лицом на землю, Doctor Marianus, и Chorus Mysticus поет:
Все преходящее
Есть только знак;
Ненаходимое
Найдено здесь;
Здесь небывалому
Сказано: будь!
Вечная Женственность —
К этому путь!
Das Ewig-Weibliche
Zieht uns hinan!" » (410).
«Вечная Женственность» подсказывает иной контекст — творчество Вл. Соловьева.
«В 1898 году, в Архипелаге Эгейского моря — там, где было первое явление Матери, возвещает Вл. Соловьев явление последнее:
Знайте же: Вечная Женственность ныне
В теле нетленном на землю идет!
В трех видениях увидел он плотскими очами Бесплотную; три имел свидания с Тою, Кого назвать не смеет:
Подруга вечная, Тебя не назову я…
„Здесь, в шутливых стихах, — самое значительное из того, что до сих пор случилось со мною в жизни“, — скажет он, скрывая под смехом самое для него святое и страшное, как это делали древние в таинствах, и все еще делают русские юродивые.
Третье свидание — в Египте, у пирамид, таинственных вех в Атлантиду, совершеннейших кристаллов Божественной Четверицы и Троицы.
И в пурпуре небесного блистанья,
Очами, полными лазурного огня,
Глядела Ты, как первое сиянье
Всемирного и творческого дня…
Дня, когда сказано: „Семя Жены сотрет главу Змия“. Это Вл. Соловьев понял, как никто» (411).
Соловьевские мистические переживания переданы с помощью цитат из стихотворения «Das Ewig Weibliche (Слово увещевательное к морским чертям)» (1898), поэмы «Три свиданья» (1898) и примечания Вл. Соловьева к ней. «Пророчество» Г. Ибсена — пересказом и цитированием «Пер Гюнта»:
«Мать является умирающему Пэру Гюнту, у Ибсена, в образе двойном — его же собственной, старой, ослепшей от слез, матери и вечно юной возлюбленной — Сольвейг.
„Летний день на севере. Избушка в сосновом бору. На пороге сидит женщина со светлым, прекрасным лицом и, глядя на лесную дорогу, поет:
Гореньку к Троице я убрала.
Жду тебя, милый, далекий…
Жду, как ждала.
Труден твой путь одинокий, —
Не торопись, отдохни.
Ждать тебя, друг мой далекий,
Буду я ночи и дни!
Пэр Гюнт приходит к ней, узнает Невесту-Мать, крепко к ней прижимается, прячет на ее коленях лицо и плачет от радости:
Благословенно первое свиданье
И эта наша встреча в Духов День!
Невеста целует его, баюкает Мать:
Спи-усни, ненаглядный ты мой,
Буду сон охранять сладкий твой!
Сон — смерть, пробужденье — вечная жизнь!“
Мать ждет всего человечества, так же как Сольвейг ждет Пэра Гюнта; так же убрала для него "гореньку к Троице", и встреча их будет так же "в Духов день" » (411–412).
«Слова» великих мистиков завершает фрагмент стихотворения З. Гиппиус «Вечно-женственное» (412–413).
В сравнении с книгой «Тайна Трех. Египет — Вавилон» круг имен «спутников» становится меньше, но выкристаллизовывается потребность Д. Мережковского в творчестве именно писателей-«мистиков». В «Тайне Трех», например, он обращался к творчеству Л. Толстого — пересказывал и цитировал «Три старца» и «Смерть Ивана Ильича», в «Тайне Запада» имя и наследие писателя не упоминаются. Нет в книге и имени Ф. Ницше, имя Наполеона возникает единожды, да и то в связи со «Страданиями молодого Вертера» Гёте, но в то же время происходит возвращение к темам дореволюционного творчества. Тенденцию к сокращению числа литературных произведений как источников можно видеть и в третьей части трилогии.
В ее названии «Иисус Неизвестный» использована инверсия, которая во многом обусловила круг источников книги. Автор обращается не только к библейскому тексту, но к апокрифам и текстам древних, в которых стремится обнаружить доказательства того, что христианством непонята личность Христа [203] Мережковский Д.С. Иисус Неизвестный. Подг. текста, предисл., примеч., сопровод. ст. Е. Андрущенко. — М.: Эксмо, 2007. Далее страницы указываются по этому изданию.
. Книга состоит из двух томов, каждый из них — из двух частей. Как и в «Тайне Запада», Д. Мережковский отказывается от трехчастной формы. Но «Иисуса Неизвестного» мыслит как завершающую часть трилогии, текстуально связывая ее с двумя предшествующими частями. Такая связь устанавливается при автоцитации «Тайны Трех» и «Тайны Запада» и введении цитат из тех источников, которыми он пользовался при их подготовке. Разумеется, эта книга связана и с другими сторонами наследия писателя, если иметь в виду его собственное утверждение, что все его произведения «звенья одной цепи, части одного целого» [204] Мережковский Д.С. Полн. собр. соч. — М., 1914. Т. I. С. V.
.
Ю. Терапиано полагал, что
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: