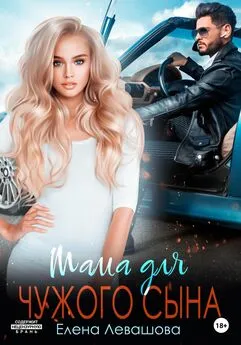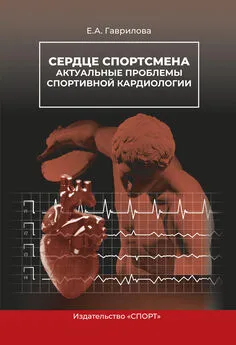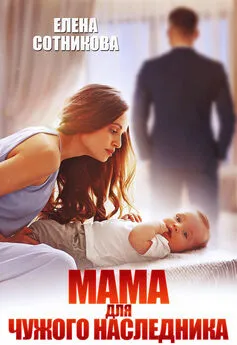Елена Андрущенко - Властелин «чужого»: текстология и проблемы поэтики Д. С. Мережковского
- Название:Властелин «чужого»: текстология и проблемы поэтики Д. С. Мережковского
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Водолей
- Год:2012
- Город:Москва
- ISBN:978-5-91763-12
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Елена Андрущенко - Властелин «чужого»: текстология и проблемы поэтики Д. С. Мережковского краткое содержание
Один из основателей русского символизма, поэт, критик, беллетрист, драматург, мыслитель Дмитрий Сергеевич Мережковский (1865–1941) в полной мере может быть назван и выдающимся читателем. Высокая книжность в значительной степени инспирирует его творчество, а литературность, зависимость от «чужого слова» оказывается важнейшей чертой творческого мышления. Проявляясь в различных формах, она становится очевидной при изучении истории его текстов и их источников.
В книге текстология и историко-литературный анализ представлены как взаимосвязанные стороны процесса осмысления поэтики Д.С. Мережковского, показаны возможности, которые текстология открывает перед тем, кто стремится пройти путь от писательского замысла до его реализации, а иногда и восприятия читателем.
Властелин «чужого»: текстология и проблемы поэтики Д. С. Мережковского - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
«В утешение нам можно только сказать, что это повелось уже издавна. Боги любят и мудрых делать глупыми. Аристотель в „Метафизике“ называет учение Платона об Эросе, эту жемчужину эллинской мудрости, „бредом пьяных“, а Спиноза, возражая на божественное слово о детстве, сопоставляет детей с „дураками и сумасшедшими“» (72),
затем осознает сторонником:
«„Почему материя не достойна природы божественной?“ — недоумевает Спиноза. Никто не ответил на это недоумение, кроме Египта».
Комментарием к мысли об атеизме являются слова Кириллова из «Бесов»:
«Для нашей религиозной лжи у нас есть слово: атеизм. Атеизм, отрицание религии с религиозною жаждою социальной правды — это противоречие не мое, а мира. Разве мы не видим, как социалистический атеизм становится новою верою? „Я верую, что Бога нет“, — исповедует бесноватый Кириллов в „Бесах“ Достоевского» (57–58),
причем сначала они цитируются, а затем еще дважды в текст вводится разорванная цитата и реминисценция. Интертекст из произведений Ф. Достоевского по частотности цитирования превосходит все другие источники, причем они вводятся как со ссылкой на него, так и без нее, как семантические формулы, вызывающие нужные ассоциации, как идеи-образы:
«По пути прогресса мы двигались быстро, летели, как брошенный камень, — и вот куда залетели.
Робок, наг и дик, скрывался
Троглодит в пещерах скал.
Троглодит в конце прогресса. Может ли это быть? Вопрос уже не кажется сейчас таким нелепым, как до всемирной войны и до русской революции-антропофагии» (63).
Цитируемые Митей в «Братьях Карамазовых» строки приведены без кавычек, а поэтический образ отрывается от исходного контекста и становится символом дикости человечества. В XV главке «Небывалого» используется именно он:
«Научные изобретения, чудеса механики могут быть „чудесами дьявола“.
Робок, наг и дик, скрывался
Троглодит в пещерах скал.
Ученый троглодит с чудесами дьявола — самый дикий из дикарей» (66–67).
Между этими фрагментами вводится отрывок из сна Раскольникова (64–65), тема которого разворачивается в следующей главке.
В главе «Бегство в Египет» слова Ивана Карамазова без отсылки к источнику вводятся в авторское слово:
«Что такое Атлантида? Предание или пророчество? Была ли она или будет?
Атланты — „сыны Божьи“, или, как мы теперь сказали бы, „человекобоги“. „Человек возвеличится духом божеской, титанической гордости — и явится Человеко-бог“. О ком это сказано? О них или о нас? Не такие же ли и мы — обреченные, обуянные безумною гордыней и жаждою могущества, сыны Божьи, на Бога восставшие? И не ждет ли нас тот же конец?» (173).
Глава «Небесная радость земли» начинается цитатой из «Бесов», истолкование которой приспосабливается к теме рассуждения и завершается парафразом заглавий книг В. Розанова и Вл. Соловьева.
«„Бывают с вами, Шатов, минуты вечной гармонии?… Есть секунды, их всего за раз приходит пять или шесть, и вы вдруг чувствуете присутствие вечной гармонии, совершенно достигнутой. Это не земное, я не про то, что оно небесное, а про то, что человек в земном виде не может перенести. Надо перемениться физически или умереть. Это чувство ясное и неоспоримое. Как будто вдруг ощущаете всю природу и вдруг говорите: да, это правда. Бог, когда мир создавал, то в конце каждого дня создания говорил: „да, это правда, это хорошо“. Это … это не умиление, а только так, радость. Вы не прощаете ничего, потому что прощать уже нечего. Вы не то что любите, — о, тут выше любви! Всего страшнее, что так ужасно ясно, и такая радость. Если более пяти секунд, то душа не выдержит и должна исчезнуть. В пять секунд я проживаю жизнь и за них отдал бы жизнь, потому что стоит. Чтобы выдержать десять секунд, надо перемениться физически“.
Ни Кириллов, ни сам Достоевский не подозревают, конечно, что здесь прикасаются к сокровеннейшей тайне Египта.
„Бесноватый“ Кириллов находится в средоточии того вертящегося смерча, из которого выйдет русская и, может быть, всемирная революция, „Апокалипсис наших дней“, „конец мира“. Только через этот конец мы постигаем начало мира, через эту бурю „бесов“ — божественную тихость Египта» (176–177).
Слова Черта Ивану Карамазову «Все, что у вас, есть и у нас» дают возможность судить о загробных представлениях древних; цитата из «Дневника писателя» за 1872 г. (V. Влас) («многое можно знать бессознательно») оправдывает широкие авторские допущения; незакавыченное словосочетание «дурной бесконечности», как и в книге «Л. Толстой и Достоевский», подчеркивает ужас повторяемости рождения и смерти. В этом же контексте вводится и цитата из стихотворения А.К. Толстого «По гребле неровной и тряской…» (1840-е гг.): последние две строки заключительного четверостишия — в «Тайне Трех», а первые две, как мы уже говорили, — в книге «Л. Толстой и Достоевский». В главе «Таммуз. Тень воскресшего», посвященной вавилонским верованиям, без отсылки цитируются слова старца Зосимы о «клейких весенних листочках»… И даже так:
«„Подпольный человек“ родился в Вавилоне. <���…> Темный, подпольный человек Достоевского повторяет Гераклита Темного: „Человек любит страдание ровно настолько же, как благоденствие“» (394–395).
Еще один «слой» книги — лермонтовский. Д. Мережковский цитирует его произведения по тематической близости, используя строки как емкий образ — вне связи с поэтическим контекстом, комбинируя со строками Ф. Тютчева или Ф. Достоевского. Так, например, в главе «Раненая львица — Потоп» авторское слово задает тему:
«В здешнем порядке день покрывается ночью; в нездешнем ночь — днем» (398).
Ее иллюстрируют фрагменты стихотворений Ф. Тютчева «Святая ночь на небосклон взошла» (1850), «Душа хотела б быть звездой…» (1836), «Видение» (1829), перебиваемые словами древних и фрагментом из стихотворения М. Лермонтова «Выхожу один я на дорогу» (1841) (398–400). В совокупности они формируют обобщенный образ поэтического проникновения в иные миры. Такую же функцию выполняют гоголевские реминисценции. Вначале пересказывается и цитируется фрагмент из «Портрета», с помощью которого объясняется смысл египетских верований; затем — «Страшная месть», «Вий», пересказ которых вводится по общности темы, и, наконец, упоминается его персонаж Янкель как символ вечности народа израильского. Пушкинское «слово» представлено дважды — «Пророком» и «Жил на свете рыцарь бедный.».
Иногда Д. Мережковский сталкивает точки зрения своих «спутников», присоединяясь к той, которая является, по его мнению, истинной, иногда выстраивает ряд высказываний своих оппонентов и сторонников. Так, глава «Божественный трилистник» открывается незакавыченным пересказом легенды Л. Толстого «Три старца» (88–89). В оппозиции к ней находятся слова Гёте из его «Разговоров с Эккерманом» в переводе Д. Аверкиева и цитата из «Фауста»:
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: