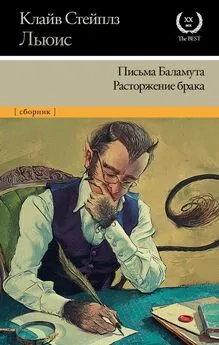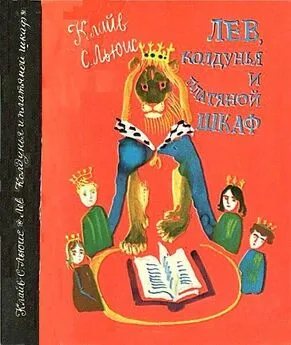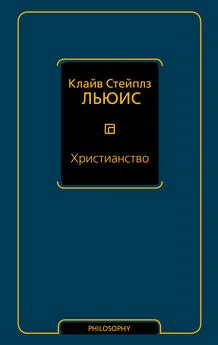Клайв Стейплз Льюис - Христианство [сборник]
- Название:Христианство [сборник]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2018
- Город:Москва
- ISBN:978-5-17-106430-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Клайв Стейплз Льюис - Христианство [сборник] краткое содержание
В сборник включены три классические работы Льюиса по апологетике христианства – «Просто христианство», «Любовь» и «Страдание». Клайв Стейплз Льюис одним из первых христианских философов ХХ века выдвинул смелую идею «экуменического христианства», не связанного с определенной конфессиональной принадлежностью. Истинная вера не имеет ничего общего с разногласиями различных ответвлений христианства, и именно в этом, по мнению Льюиса, заключается суть «просто христианства».
Христианство [сборник] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Некоторые задают мне такой вопрос: «Может быть, то, что вы называете нравственным законом, на самом деле – общественное соглашение, которое мы узнаём, когда учимся?» Я думаю, такой вопрос возникает потому, что мы неверно понимаем некоторые вещи. Задающие его мыслят так: если мы научились чему-то от родителей или учителей, это непременно выдумали люди. Однако это неверно. Все мы учим в школе таблицу умножения. Ребенок, который вырос один на заброшенном острове, не будет ее знать. Но из этого, конечно, не следует, что таблица эта – всего лишь человеческое соглашение и люди изобрели для себя ее, а могли бы изобрести другую, если бы захотели. Я согласен с тем, что мы учимся порядочному поведению у родителей, учителей, друзей, книг точно так же, как учимся мы всему другому. Однако только часть того, чему мы учимся, – просто условные соглашения, которые можно изменить; например, нас учат держаться левой стороны дороги, но мы с таким же успехом могли бы установить другое правило. Иное дело – такие правила, как математические. Их изменить нельзя, потому что это реальные, объективно существующие истины.
Вопрос в том, к какой категории относится естественный закон.
Есть две причины считать, что он принадлежит к той же категории, что и таблица умножения. Одна, как я сказал в первой главе, заключается в том, что, несмотря на различие взглядов в разных странах и в разные времена, различия эти несущественны. Они совсем не так велики, как некоторые думают. Всегда и везде представления о нравственности исходили из одного и того же. Между тем простые (или условные) соглашения, вроде правил уличного движения или покроя одежды, могут отличаться друг от друга на все лады.
Вторая причина – в следующем: когда вы думаете об этих различиях, не приходит ли вам в голову, что мораль одного народа лучше (или хуже) морали другого? Не улучшили ли бы ее некоторые изменения? Если нет, тогда, конечно, никакого прогресса нравственности быть не могло: ведь прогресс – не просто изменение, а изменение к лучшему. Если бы ни один из нравственных кодексов не был вернее или лучше другого, то не было бы смысла предпочитать мораль цивилизованного общества морали дикарей или мораль христиан – морали нацистов.
На самом деле мы все, конечно, верим, что одна мораль лучше, правильнее, чем другая. Мы верим, что люди, которые пытались изменять нравственные представления своего времени, так называемые реформаторы, лучше понимали значение нравственных принципов, чем их ближние. Ну что ж, хорошо. Но как только вы скажете, что один моральный кодекс лучше другого, вы мысленно прилагаете к ним некий стандарт и делаете вывод, что вот этот кодекс лучше соответствует ему, чем тот.
Однако стандарт, который служит нам мерилом, должен отличаться от того, что им мерят. В данном случае вы сравниваете эти кодексы с некоей истинной моралью, признавая тем самым, что истинная справедливость действительно существует, независимо от людских мнений и от того, что мнения одних лучше соответствуют этой справедливости, чем мнения других. Давайте посмотрим на это с другой стороны. Если ваши нравственные представления могут быть более правильными, а представления нацистов – менее правильными, должна существовать какая-то истинная норма, которая может служить мерилом тех или иных взглядов. Ваше представление о Нью-Йорке может быть вернее или неправильнее моего, потому что Нью-Йорк – это реальное место и существует он независимо от того, что мы о нем думаем. Если бы каждый из нас, говоря «Нью-Йорк», подразумевал просто «город, который я вообразил», как могли бы представления одного быть вернее, чем представления другого? Тогда не было бы и речи о правоте или заблуждении. Точно так же, если бы нравственные правила просто значили «все, что ни одобрит этот народ», не было бы смысла говорить, что один народ мыслит справедливее, чем другой. Не было бы смысла говорить, что мир может улучшаться или ухудшаться в нравственном отношении.
Таким образом, я могу вывести, что хотя различия между понятиями о порядочности часто приводят к сомнению, существует ли нравственный закон, мы склонны задумываться об этих различиях, и это доказывает, что он существует.
Перед тем как я закончу, позвольте мне сказать еще несколько слов. Я встречал людей, которые преувеличивали упомянутые расхождения, потому что не видели разницы между различиями в нравственных представлениях и в толковании определенных фактов. Например, один человек сказал мне: «Триста лет тому назад в Англии убивали ведьм. Проявлялся ли тут ваш естественный закон, закон правильного поведения?» Но ведь мы не убиваем ведьм сегодня потому, что мы в них не верим. Если бы мы верили – если бы мы действительно думали, что рядом живут люди, продавшие душу дьяволу и получившие от него взамен сверхъестественную силу, которую они используют для того, чтобы убивать соседей, или сводить с ума, или вызывать плохую погоду, – мы бы согласились: кого-кого, а этих бесчестных злодеев казнить надо. Нет различия в нравственных принципах, разница – только во взглядах на определенный факт.
То, что мы не верим в ведьм, возможно, свидетельствует о прогрессе человеческого знания; то, что мы не судим ведьм, в которых перестали верить, нельзя считать нравственным прогрессом. Вы не назовете добрым человека, который перестал расставлять мышеловки, если он просто убедился, что в его доме нет мышей.
3. Реальность закона
Теперь я вернусь к тому, что сказал в конце главы 1 о двух странных особенностях, присущих людям. Во-первых, людям свойственно думать, что они должны соблюдать определенные правила поведения, иначе говоря – правила честной игры, или порядочности, или морали, или естественного закона.
Во-вторых, люди этих правил не соблюдают. Кое-кто может спросить, почему я называю это странным. Вам это может казаться естественным. Возможно, вы думаете, что я слишком строг к роду человеческому. В конце концов, можете сказать вы, то, что я называю нарушением закона, просто свидетельствует о несовершенстве человеческой природы. Собственно говоря, почему я ожидаю от людей совершенства? Такая реакция была бы правильной, если бы я пытался точно подсчитать, насколько мы виноваты в том, что сами поступаем не так, как, с нашей точки зрения, должны поступать другие. Но мое намерение – совсем не в этом. Сейчас я не сужу о вине, я стараюсь найти истину. С этой точки зрения сама мысль о том, что мы – не такие, какими надо быть, ведет к определенным последствиям.
Какой-нибудь предмет, например, камень или дерево, – такой, какой он есть, и нет смысла говорить, что он должен быть другим. Вы, конечно, можете сказать, что у камня «неправильная форма», если хотите использовать его, украшая свой сад, или что это – «плохое дерево», потому что под ним мало тени. Но вы всего лишь подразумеваете, что камень или дерево не подходят для ваших целей. Вы не станете, разве шутки ради, винить их за это. Вы знаете, что из-за погоды и почвы ваше дерево просто не могло быть другим и «плохое» оно потому, что подчиняется законам природы точно так же, как и «хорошее».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
![Обложка книги Клайв Стейплз Льюис - Христианство [сборник]](/books/1059741/klajv-stejplz-lyuis-hristianstvo-sbornik.webp)



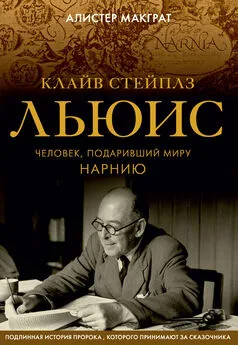
![Клайв Стейплз Льюис - Чудо [сборник]](/books/1059740/klajv-stejplz-lyuis-chudo-sbornik.webp)