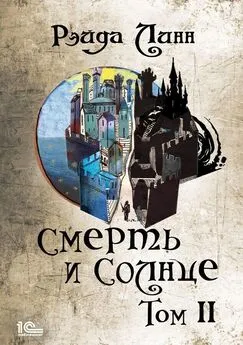Петер Слотердайк - Солнце и смерть. Диалогические исследования
- Название:Солнце и смерть. Диалогические исследования
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Иван Лимбах Литагент
- Год:2015
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-89059-232-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Петер Слотердайк - Солнце и смерть. Диалогические исследования краткое содержание
Солнце и смерть. Диалогические исследования - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Г. – Ю. Х.:Что лучше выбрать: поэтическую философию или философскую поэзию? Я полагаю, что путь, который Вы проложили, наиболее убедителен – путь поэтически модифицированной философии, потому что в общем балансе все же доминирует познавательный интерес. Мне кажется, что в Вашем проекте играет определенную роль амбиция – написать заново, под измененным углом зрения книгу «Бытие и время» Хайдеггера: на этот раз – как философию пространства. Вы хотите вернуть приоритет пространству, к которому будет приписано подчиненное ему время. Поэтому, без сомнения, правильно, что Вы выбрали философскую форму подачи материала.
П. С.:Если бы я преподнес «Сферы» как роман, то встретил бы непонимание. Книгу читали бы как литературное произведение, принадлежащее к определенной тенденции, – как пьесу в тезисах à la Сартр. Трудности с формой подачи материала возникают в любом случае – и в случае с «романом», и в случае с «философским исследованием». И в одном и в другом случае дело сводится к тому, чтобы показать, при каких условиях столь бедный тезис – «человек приходит к миру» – может превратиться в самый богатый и содержательный из всех философских тезисов. Можно, как и прежде, ориентироваться на суждение Гегеля: сила какой-либо мысли заключается в ее подробной развернутости и материализации. Это – принципиальное требование: если я излагаю с использованием аргументативных и повествовательных средств исходную идею книги – «родиться для человека – значит прийти-к-миру», то я должен представить достаточно сильными и полюс интимности, и полюс космоса – по отдельности, а затем дать широкую панораму посредствующего движения между ними. Такая работа требует известного объема – как для описания полюса интимности, так и для описания полюса мира, – потому эти две книги и вышли столь толстыми. Первая часть, «Пузыри», – парафраз на тему: «Что это значит – прийти изнутри и существовать в сюрреальном пространстве парной любви». Таким образом я выражаю c ondition humana – условия существования человеческого – на их слабом полюсе, на полюсе интимности. Я обсуждаю «откуда» человеческого рождения и первое пространство, основные формы экзистенции в сферах. В противоположность этому «Глобусы» имеют своей темой «куда» – правда, это «куда» простирается только до того рубежа, до которого давались ответы в эпоху, предшествовавшую современности. На более сильном полюсе – полюсе публичности – я занимаюсь вопросами: «Что это за место, в которое забросило нас в-мире-бытие? Что нам вообще искать на этом большом полюсе? Почему нам нужно втягиваться в это большое и в это наибольшее? Почему мы, как животные, не включены от рождения в стабильную, неизменную окружающую среду – не подымая взгляда вверх, на Целое, без сознательного вникания и впутывания в более масштабные мировые тексты? Почему мы не приспособлены априори к большому полюсу? Почему соответствие жизни человека и его окружающей среды столь проблематично, почему они так плохо подходят друг к другу, почему они столь асимметричны – даже после стольких усовершенствований, предпринятых в культуре, почему <���для их согласования между собой> требуется столько стараний, направленных на разработку мировоззрения, и столько усилий в моральной сфере? Почему люди обречены на поэтическое создание <���целостной картины мира> и на мышление?» На эти вопросы я ищу ответы – лучше будет сказать, я переформулирую те вопросы, в ответ на которые возникли исторически существовавшие культуры.
Таким образом, видно, что на полюсе мира как целого встают совсем иные вопросы, чем на полюсе интимности. Здесь речь идет о том, чтобы окинуть единым взглядом множественное, чтобы упорядочить массу опытов и познаний, чтобы истолковать открытость. Мир есть совокупное понятие обо всем, что дается и познается, когда человек пребывает вне своего обиталища. Если бы человек всегда оставался затворником в материнском лоне, он избежал бы познаний определенного рода – и даже избежал бы познаний вообще. И как было сказано, катастрофа выхода наружу – этот прототип познания – требует особой, собственной методы описания, потому что о ней нет никакого непосредственного воспоминания. Рождение – наиреальнейшее из всего реального – есть в то же время и самое сокрытое и недоступное. Это проделывают, но не ведают, что сотворили.
Первый конструктивизм
Г. – Ю. Х.:Вы говорили об образовании мира и упоминали о затягивающемся процессе рождения <���как процессе прихода-к-миру>. Как мне представляется, тут Вы оказываетесь привязанным к той проблематике, которую ранние культуры обсуждали в мифах о сотворении мира. Они задали парадигму для всех последующих форм развития представлений о мире. Карл Кереньи [181] Карл Кереньи (1897–1973) – венгерский, а впоследствии швейцарский филолог-классик, религиовед.
в «Дочери солнца» обсуждает наблюдение, что всякий рассказ о первопричине мира начинается с еще-не-бытия этого мира, но все же вынужден повествовать об этом «еще-не» так, словно что-то уже существовало. Все, что мы можем сказать о мире, существовавшем до человека, неразрывно связано с языком и с человеком, который говорит. Хотя возникновение мира изображается как нечто такое, что происходило независимо от человека, этот процесс должен быть представлен как появление мира в сознании мыслящего. Космогоническая мифологема сама есть то, о чем она повествует: она – духовное творение, она – искусство. Тут все точно так же, как с музыкальным произведением, – можно сказать, что оно так и хочет быть сыгранным и исполненным со сцены, а это предполагает, что оно возникает само собой, осуществляет само себя. Разве в свете Вашей теории прихода-к-миру как появления мира <���в сознании человека> для Вас не играет главной роли мифологическое мышление?
П. С.:Если бы я избрал иной способ подачи материала, то это было бы так. Но в осуществленном проекте «Сфер» мифологические моменты имеют лишь маргинальное, промежуточное значение. В третьей части это еще более заметно. И уже в «Глобусах» все обстоит именно таким образом. Для меня миф как форма повествования находится на втором и даже на третьем плане, потому что я повествую не об изначальном событии, а о первичном наглядном образе, о некой примитивной рациональной модели, а именно – о шаре. Тут речь идет о простой математической форме, а не об архетипическом событии. Шар не рассказывает – его конструируют.
Вследствие этого упомянутая Вами проблема повествования о том, что было до начала, – проблема, с которой всегда сталкивается мифология, – в моих контекстах почти не затрагивается или остается лишь на втором плане. Математик или геометр не обязан говорить, что было до возникновения шара и из чего он был первоначально сделан, – он должен продемонстрировать, как он делается. Новая космология Платона отличается тем, что она вводит шар как вневременную форму – форму, не имеющую какого-то до-того-существовавшего, как форму, которая следует сама собой из понятия бога. Это – первосцена конструктивизма. Таким образом, полное мое безразличие к вопросу о мифе объясняется тем, что конструирование шара – это античный пролог к современному авангардизму. А всякий авангардизм – завершение истории и принципиально новое начинание. Именно это продемонстрировал Платон в «Тимее» и в «Политике». Он по-новому сконструировал государство, исходя из рациональных критериев, он по-новому спроектировал знание, исходя из теории изначальных форм и принципов. Таким образом, он достиг освобождения нового дискурса от старого рассказа-повествования – по крайней мере, в тенденции, ведь, как известно, и у Платона есть остаток мифического, который свидетельствует о том, что реальное сопротивляется тотальному его конструированию задним числом. После поворота к чистому конструированию из форм и чисел уже можно представить, как устроена вселенная в целом, не спрашивая у старух-сказительниц. Рационалистический оптимизм ранней философии проистекает из вызывающего эйфорию открытия, что можно разом задать правило конструирования всего мира в целом. Проект философии может обрести форму только тогда, когда ты осмелишься поверить в то, что способен проследить мысли бога перед актом творения, в данном случае – отследить идею формы, которой бог руководствовался, определяя устройство космоса. Если нам это удастся, то мы окажемся в состоянии сплавить наше человеческое геометрическое знание со знанием божественной геометрии и разом превратиться в как бы знатоков происходящего на той стороне – наряду с богом. С этого момента мир не только обнаруживается <���в готовом виде>, но и «делается» его. Я, разумеется, признаю, что античная геометрия имела преимущественно созерцательный характер и понимала себя скорее как наблюдение вечных первоформ, чем как деятельность по конструированию: ее конструктивистский потенциал так и остался в дремлющем состоянии и был разбужен только в XVII веке. Однако уже по отношению к ранней геометрии философов верно следующее замечание: тот, кто мыслит шар, всегда выступает и участником создания шара или со-знатоком modus operandi Творца – строителя мира.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:

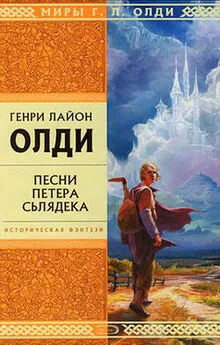
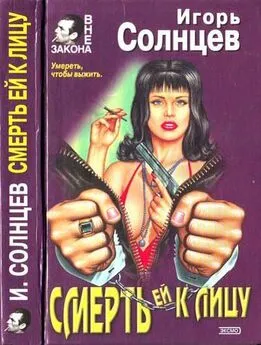

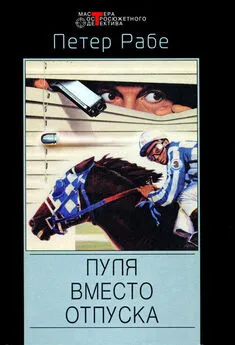
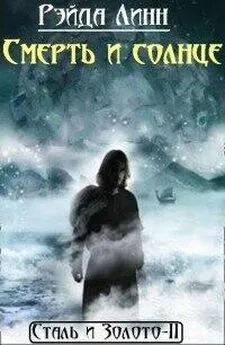
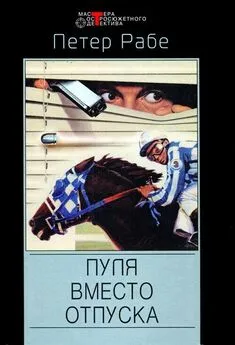

![Павел Щёголев - Дуэль и смерть Пушкина [Исследование и материалы]](/books/1078686/pavel-chegolev-duel-i-smert-pushkina-issledovanie.webp)