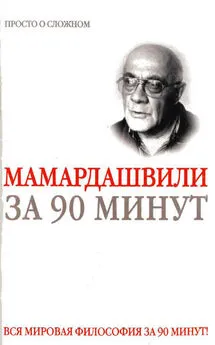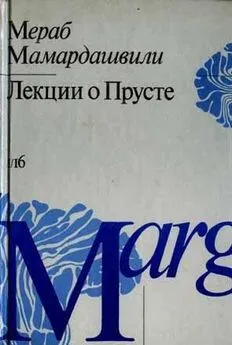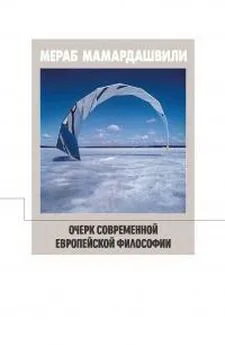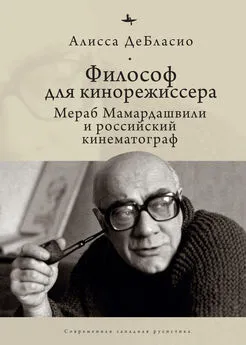Мераб Мамардашвили - Лекции по античной философии
- Название:Лекции по античной философии
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:978-5-9905505-7-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Мераб Мамардашвили - Лекции по античной философии краткое содержание
ISBN 978-5-9905505-7-5
Редактор
Елена Мамардашвили
Публикуемые лекции Мераба Константиновича Мамардашвили (1930–1990) — один из курсов по истории философии, которые были прочитаны в 1978–1980 гг. студентам Всесоюзного государственного института кинематографии. Автор ставит перед собой задачу рассказать об истории философии как истории размышлений о предельных основаниях отношений человека и мира. В центре его внимания проблема бытия существующего, возникающая в пространстве древнегреческой мысли. Раскрывая бытие как нечто становящееся, автор прослеживает в размышлениях греческих философов фундаментальные принципы, лежащие в основаниях античного, а в последующем — европейского идеала мышления и понимания мира и человека.
В оформлении обложки использован фрагмент работы из серии «Пророки» ( 2001 г.) Эрнста Неизвестного.
© Е.М. Мамардашвили, 2009, 2016
© Фонд Мераба Мамардашвили, 2009, 2016
© Анна Грэм, 2016
Лекции по античной философии - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Греки говорят: бытие одно и время одно, оно не размножается (и это они называют бытием). Оно одно, уже есть, но мы об этом не знаем. А что значит «уже есть»? То, к чему мы не применяем термина «происхождение» и происхождение чего мы не прослеживаем. Истина жизни Эдипа уже есть: он спит со своей матерью и убил своего отца, истина есть до всех тех действий, которые он предпримет сознательно, кстати, в поисках этого бытия. Но что бы он ни делал, бытие уже есть, только он об этом не знает, уже есть, и мы не должны выяснять, откуда оно. Само оно не имеет происхождения; в том, как мы об этом говорим, мы его допускаем, чтобы понять нечто другое, а именно то, что происходит с Эдипом после того, что бытие уже есть. Уже есть, я повторяю, и мы отказываемся от применения термина «происхождение», не рассматриваем это во времени, а значит, это вечно. Рассуждая о бытии, греки всегда имеют в виду вечную душу, в которой существуют истины до встречи с конкретными предметами, относительно которых эта истина является истиной. В мифе Платона о мальчике-рабе Сократ [23]* извлекает из души мальчика извечно имевшуюся в его душе теорему Пифагора, мальчик вспоминает утонувшие в глубине души знания, которые являются следами встреч в вечности с богом, как выражались греки.
Повторяю, что язык не есть буквальное утверждение: какая разница с точки зрения символики нашего языка, говорю ли я о встрече с богом или говорю, что бытие вечно и неподвижно (здесь нет ни одного слова о боге). Но попробуйте понять сказанное буквально: бытие вечно и неподвижно, значит, этого нельзя помыслить, этого нет. [Бытие] неподвижно, если я больше не совершаю того, из-за чего мне приходится раскаиваться; совершение чего-то и раскаяние из-за совершенного — и то и другое — реальные эмпирические события, которые появляются, исчезают, снова повторяются. А вот в тексте Парменида сказано: «В бытии нет ни появления, ни прехождения» [24]*.
Обычно комментаторы это понимают в том смысле, что греки отрицали становление, изменение физических предметов во времени, поскольку в тех понятиях, которыми они располагали, они не могли справиться с пониманием факта изменений в мире. Но совсем не об этом шла речь. Это просто язык, используемый для того, чтобы сказать, что предметы появляются, исчезают, раскаяние растворяется: я ведь не могу постоянно оставаться в состоянии раскаяния в силу порога чувствительности и способов ее организации (нельзя быть вечно взволнованным). То, о чем говорил Пифагор, потом прекрасно понимали, как ни странно, не философы, а деятели театра, и это понимание состояло в следующем: надо так построить машину театра, чтобы из случившегося раз и навсегда извлечь смысл и не повторять того, из-за чего я испытываю какие-то состояния, поскольку удержать их по законам чувствительности я не могу. Что-то перестает меня раздражать, потому что чувства притупляются, и если что-то зависит от притупляемости чувств, то это «что-то» рассеивается и исчезает. Пифагор имел дело именно с проблемой того, как это удержать.
У Парменида повторяется то же самое. Я сказал, что раскаяние и событие, вызвавшее раскаяние, — это события в нашем регистре жизни, в том режиме, к которому способна наша психофизическая организация, они появляются, исчезают; теперь назовем все это возвышенными словами «становление», «пребывание», «исчезновение». Так вот, скажет Парменид, этого нет в той мере, в какой есть бытие; по отношению к этому бытие есть то, что неподвижно и одно в том смысле, что человек выскочил из дурной последовательности или сцеплений события, вызывающего раскаяние, раз и навсегда, или пребыл раз и навсегда, или извлек опыт и смысл, извлек то, что уже есть. Ведь поступок и сам факт раскаяния все время указывают на то, что уже есть истина относительно меня самого и того, что реально означают мои поступки. И если я переключусь, то, прервав дурную бесконечность, я попаду в то, что уже есть и о чем нельзя сказать, что этого никогда не было или что это будет лишь в будущем. В будущем не будет, потому что удваивать, утраивать, размножать времена и бытие невозможно. Бытие одно, и оно всегда в настоящем, все целиком. Вот это «все целиком в настоящем» и есть особая бесконечность, включающая в себя человека, объемлющая или продуктивная бесконечность, все время актуализируемая.
Перед тем как я приведу банальный пример, мы должны закрепить одну вещь. Есть то, что греки называют бесконечностью (она всегда внутри конечного, называемого бытием), и то, что греки называют беспредельным, небытием, неопределенно многим, и так далее. То, что они называли особым бесконечным, или бытием, я независимо от терминов греческой философии называл некоей другой жизнью, отличной от нашей повседневной, обыденной жизни. Хочу подчеркнуть, что бытием называется нечто живущее: оно столь же живо, как и мы, но живет особой жизнью, более цельной, осмысленной. Это означает, что там, где греки говорят о смыслах, об одном , — например, Гераклит будет говорить о том, что люди не знают, что ночь и день одно [25]*, — смысл, в каком ночь и день одно , не есть смысл прямого утверждения, что действительно ночь и день в силу какой-то особой диалектики есть одно.
Это есть одно в применении к ритмам и организации жизни бытия, а рядом есть и продолжается другой режим, наш, в котором мы живем обычной, повседневной жизнью, где повторяем поступки, вызывающие у нас раскаяние, сожаление. Иногда мы оказываемся в бытии и прекращаем эти повторения. Но все равно что-то другое мы делаем по закону беспредельно многого: совершаем поступок, он вызывает у нас раскаяние, в этом раскаянии мы не меняем структуру своего сознания и поэтому снова совершаем аналогичный поступок, который вызывает аналогичное раскаяние.
В нашем естественном режиме бытия, или существования, мы не можем неопределенно долго, или бесконечно долго, удерживать мысль и быть в ней сосредоточенными. Конечно, в какие-то привилегированные моменты мы можем собрать все куски своей жизни, но сам этот момент собирания не есть вся наша жизнь. Он есть именно момент. Религиозные люди прекрасно знают, что то, что называется молитвой, — это момент собирания себя, но ведь мы не молимся непрерывно, и поэтому повторяется сцепление причин и действий, свойственных нашему психофизическому аппарату. Это ритм жизни, мы не пребываем все время в бытии, мы к нему иногда прикасаемся, и тогда мы стороны, или фацеты, того, что уже есть, есть всегда, есть везде неразрушимо, неподвижно, вечно.
Значит, есть два потока: в одном — наша жизнь, а внутри нее, кусками, другой режим, когда мы прикасаемся к бытию. Он тоже может быть описан как бытие, как целое (но не как некое реальное целое, которое, физически отделенное, существует рядом с другим, связанным с нашей эмпирической жизнью). И вот философское утверждение: эти два потока имеют отношение к описанию особых свойств, особых ритмов нашей жизни в той мере, в какой наша жизнь в какие-то привилегированные мгновения прислоняется к бытию, а потом мы неминуемо из него выпадаем. Мы не можем вечно волноваться: даже если мы извлекли смысл, все равно какими-то другими кусками мы находимся во власти способностей нашего психофизического аппарата, ничего с этим не сделаешь. Философские термины все время идут на грани сопоставления одного и другого.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: