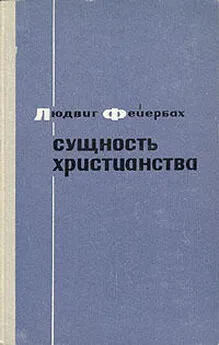Людвиг Фейербах - Стремление к счастью. С комментариями и объяснениями
- Название:Стремление к счастью. С комментариями и объяснениями
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент АСТ
- Год:2020
- ISBN:978-5-17-120261-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Людвиг Фейербах - Стремление к счастью. С комментариями и объяснениями краткое содержание
Вся система ученого построена на понятии «сознание»: по-настоящему сознательный индивидуум не нуждается ни в религии, ни в устаревшей традиции, а сам создает счастье для себя и других. Хотя Фейербах говорил о личном счастье, он создавал своеобразное учение об обществе как союзе разных людей, готовых беречь не только общее достояние, но и чувства друг друга. Влияние Фейербаха испытали на себе самые разные мыслители: от Карла Маркса, увидевшего в нем главное звено между идеалистическим Гегелем и историческим материализмом, до религиозных мыслителей, заметивших в его атеизме отблески нового богословия. Мысли Фейербаха звучат неожиданно актуально – но всегда актуальны поиски себя, смысла жизни, всего высокого, что есть в нашем мире.
Стремление к счастью. С комментариями и объяснениями - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
 Грация – латинский перевод греческого слова χάρις, Харита, которое в христианских текстах означает «благодать», дар непосредственно от Бога, милость, а отсюда и значения одаренности, таланта и грации (изящества, приятности, как бы ощущения как когда подарили что-то хорошее) в нашем бытовом смысле. Фейербах имеет в виду: грек мыслил себя одаренным. Поэтому греческая цивилизация оказалась настолько выдающейся, что легла в основу всей западной цивилизации.
Грация – латинский перевод греческого слова χάρις, Харита, которое в христианских текстах означает «благодать», дар непосредственно от Бога, милость, а отсюда и значения одаренности, таланта и грации (изящества, приятности, как бы ощущения как когда подарили что-то хорошее) в нашем бытовом смысле. Фейербах имеет в виду: грек мыслил себя одаренным. Поэтому греческая цивилизация оказалась настолько выдающейся, что легла в основу всей западной цивилизации.
Религия есть тожественное с сущностью человека воззрение на сущность мира и человека. Но не человек возвышается над своим воззрением, а оно возвышается над ним, одухотворяет и определяет его, господствует над ним. Необходимость доказательства, связь сущности или качества с существованием, возможность сомнения отпадают сами собой. Я могу сомневаться только в том, что я отделяю от своей сущности. А Бог – моя собственная сущность, и поэтому я не могу сомневаться в Нем. Сомневаться в Боге, значит, сомневаться в себе самом. Только тогда, когда Бог рассматривается как нечто отвлеченное и его свойства подвергаются философской абстракции, возникает разграничение между субъектом и его свойствами, возникает предположение, будто субъект есть нечто отличное от свойств, нечто непосредственное, несомненное, в противоположность сомнительному свойству. Но это только кажущееся различие. Богу, обладающему отвлеченными качествами, свойственно и отвлеченное существование. Существование, бытие так же различно, как и качество вообще.
 Сомнительному – здесь в значении «подвергаемому сомнению», а не «отличающемуся от стандарта». Так, следует ли признать, что все люди разумны, или из существования глупцов сделать вывод, что этим свойством разумности обладают не все люди? Фейербах совершенно справедливо отвечал, что свойства не могут стать сомнительными: даже если есть глупые люди, глупость не является их родовым качеством, а ум является даже в условиях его почти полного отсутствия или непроявленности у отдельного индивидуума.
Сомнительному – здесь в значении «подвергаемому сомнению», а не «отличающемуся от стандарта». Так, следует ли признать, что все люди разумны, или из существования глупцов сделать вывод, что этим свойством разумности обладают не все люди? Фейербах совершенно справедливо отвечал, что свойства не могут стать сомнительными: даже если есть глупые люди, глупость не является их родовым качеством, а ум является даже в условиях его почти полного отсутствия или непроявленности у отдельного индивидуума.
Тожественность субъекта и предиката обнаруживается особенно ясно в развитии религии, которое идет рука об руку с развитием человеческой культуры. Пока сам человек пребывает в первобытном состоянии, и божество его носит характер первобытный. Как только человек начинает строить жилища, он сооружает храм для своего Бога. Сооружение храма свидетельствует о том, что человек ценит красивые здания. Храм в честь Бога является в сущности храмом в честь архитектуры.
 Фейербах разделяет общепринятые в его время представления, что храмовая архитектура – это первичная форма архитектуры, а гражданские дома возникли уже после появления храмов. Действительно, в истории архитектуры это часто так: например, в древнерусских городах храм часто являлся единственным каменным сооружением, а остальные дома были деревянными и, строго говоря, не представляли собой архитектурные сооружения, а скорее служебные помещения. Но в теории архитектуры ХХ века, после опыта конструктивизма и Баухауза, обычно говорят о параллельном развитии храмовой и хозяйственной архитектуры, просто являющейся архитектурой в разных смыслах. Кроме того, у Фейербаха нарушена логическая последовательность. Из того, что храм – образцовое архитектурное сооружение, делается вывод, что архитектура будет такой, каким является храм, что он порождает норму красоты и норму архитектуры. Но можно предположить противоположное: зная, какой бывает красота, люди делают храм особенно прекрасным. Именно так христианин мог сказать бы о язычнике, что имея религиозные и эстетические представления, язычник все их вкладывает в свой храм и представления о собственных богах.
Фейербах разделяет общепринятые в его время представления, что храмовая архитектура – это первичная форма архитектуры, а гражданские дома возникли уже после появления храмов. Действительно, в истории архитектуры это часто так: например, в древнерусских городах храм часто являлся единственным каменным сооружением, а остальные дома были деревянными и, строго говоря, не представляли собой архитектурные сооружения, а скорее служебные помещения. Но в теории архитектуры ХХ века, после опыта конструктивизма и Баухауза, обычно говорят о параллельном развитии храмовой и хозяйственной архитектуры, просто являющейся архитектурой в разных смыслах. Кроме того, у Фейербаха нарушена логическая последовательность. Из того, что храм – образцовое архитектурное сооружение, делается вывод, что архитектура будет такой, каким является храм, что он порождает норму красоты и норму архитектуры. Но можно предположить противоположное: зная, какой бывает красота, люди делают храм особенно прекрасным. Именно так христианин мог сказать бы о язычнике, что имея религиозные и эстетические представления, язычник все их вкладывает в свой храм и представления о собственных богах.
По мере того, как человек выходит из первобытного, дикого состояния и становится культурным, он начинает различать, что подобает и не подобает человеку и что приличествует и не приличествует Богу. Бог есть олицетворение величия, высшего достоинства; религиозное чувство – высшее чувство приличия. Только позднейшие культурные греческие художники начали воплощать в статуях богов понятия достоинства, величия души, невозмутимого спокойствия и веселия.
 Приличие (уместность) – изначально риторический термин, то, что мы называем «стилистически подходящим», не выбивающимся из величественного или иного стиля. Но этот термин стал употребляться в новое время и для описания самой античной классической культуры как таковой. Так же точно и «веселье» происходит из риторического понимания «остроумия» как умения шутками пробудить у слушателей положительные эмоции, а здесь становится характеристикой изобретшей риторику античной культуры как таковой.
Приличие (уместность) – изначально риторический термин, то, что мы называем «стилистически подходящим», не выбивающимся из величественного или иного стиля. Но этот термин стал употребляться в новое время и для описания самой античной классической культуры как таковой. Так же точно и «веселье» происходит из риторического понимания «остроумия» как умения шутками пробудить у слушателей положительные эмоции, а здесь становится характеристикой изобретшей риторику античной культуры как таковой.
Но почему они считали эти качества свойствами божественными? Потому что каждое из этих качеств казалось им божеством само по себе. Почему они не увековечивали позорных низких страстей? Потому что они смотрели на них, как на нечто неприличное, недостойное, нечеловеческое, и следовательно небожественное. Боги Гомера пьют и едят, это значит, что питье и еда – наслаждение богов. Боги Гомера обладают физической силой: Зевс сильнейший из богов. Почему? Потому что физическая сила сама по себе есть нечто прекрасное, божественное. Древние германцы считали высшей добродетелью добродетель воина, поэтому их главным богом был Один: война – «основной или древнейший закон». Главной, истинной, божественной сущностью является не свойство Божества, а божественность свойства.
 Под «низкими страстями» в классической этике обычно понимались излишества, поэтому еда и питье не были низкими занятиями, а, скажем, мстительность или капризность – были. Конечно, Зевс показывал себя и любвеобильным, и гневным, но эти страсти расценивались как страсти верховного божества, и потому высокие сами по себе или, во всяком случае, подлежащие истолкованию как высокие.
Под «низкими страстями» в классической этике обычно понимались излишества, поэтому еда и питье не были низкими занятиями, а, скажем, мстительность или капризность – были. Конечно, Зевс показывал себя и любвеобильным, и гневным, но эти страсти расценивались как страсти верховного божества, и потому высокие сами по себе или, во всяком случае, подлежащие истолкованию как высокие.
Поэтому то, что теологи и философы считали за Бога, за абсолютное, за сущность, не есть Бог. Бог это именно то, что они не считали за Бога, т. е. свойство, качество, определенность, действительность вообще. Истинным атеистом, т. е. атеистом в обычном смысле, надо считать не того, кто отрицает божественного субъекта, а того, кто отрицает божественные свойства, как то: любовь, мудрость, справедливость. Отрицание субъекта не есть отрицание качеств самих по себе. Они имеют внутреннее, самостоятельное значение: человек необходимо должен признавать их в силу их содержания, их подлинность заключается непосредственно в них самих; доказывать их – значит утверждать самого себя.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: