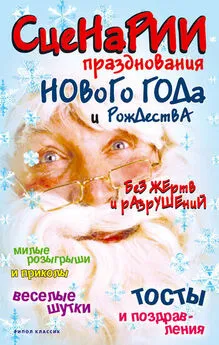Коллектив авторов - Опыт словаря нового мышления
- Название:Опыт словаря нового мышления
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:1989
- Город:Москва
- ISBN:5-01-002295-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Коллектив авторов - Опыт словаря нового мышления краткое содержание
Авторами сборника стали ведущие исследователи-гуманитарии как СССР, так и Франции. Его статьи касаются наиболее актуальных для общества тем; многие из них, такие как "маргинальность", "терроризм", "расизм", "права человека" - продолжают оставаться злободневными.
Особый интерес представляет материал, имеющий отношение к проблеме бюрократизма, суть которого состоит в том, что государство, лишая объект управления своего голоса, вынуждает его изъясняться на языке бюрократического аппарата, преследующего свои собственные интересы. Бюрократической собственностью, "объектами присвоения" бюрократов, функционирующих на нематериальном "поле" управления, выступают не вещи или люди, а бесчисленные соединения между ними, абсолютно необходимые для нормальной жизнедеятельности общества.
Сообщество бюрократов захватывает не натуральные продукты как таковые, а функцию распоряжения ими, их монопольного распределения между людьми, то есть условия и возможность их фактического использования. Объектом корпоративной собственности бюрократии становится сам общественный процесс, сюда же попадают главные уровни и функции человеческой деятельности, отчужденные у людей с помощью распорядительной власти, сумевшей уйти из-под жесткого народного контроля.
Говоря иными словами, под страхом наказания бюрократы командуют: "Руки вверх!" Некто ими владеет - своими руками. Но что проку? Этими руками распоряжаются другие, имея со своей стороны полную возможность диктовать, для чего именно и на какой срок их освободят, чтобы загрузить предписанной работой.
К.Маркс еще в молодые годы писал: "Бюрократия имеет в своем обладании государство... это есть ее частная собственность". Чиновник, монопольно владеющий государственной структурой и ее властными функциями, становится бюрократом-собственником. Именно он раздувает роль государства в обществе до чудовищных масштабов, преследует демократические институты, доводя дело до "огосударствления" всего социума и расширяя таким путем размеры своего владения. Бюрократия превращает общество в казенный дом, тюрьму, концлагерь, в котором свободная самодеятельность населения замещается административным уставом.
Сейчас про сборник «50/50...» можно сказать ещё и то, что он является интереснейшим культурным феноменом, поскольку в нём зафиксированы точки зрения на общество и науку, существовавшие на апогее Перестройки, и которых через пару лет уже не было.
Опыт словаря нового мышления - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Реальное историческое существование русской интеллигенции ограничено примерно рамками 60-х годов XIX века - 20-х годов XX века. Этому предшествовал период эмбрионального существования - от петровских реформ до крестьянской; за «реальным» периодом последовал - и продолжается - некий фантомный. На эмбриональной фазе просветительство (прединтеллигенция) соотносится лишь с властью и с большим или меньшим успехом претендует на роль ее ученого советчика.
«Реальный» период - это история взлета, раскола и подготовки самоуничтожения интеллигенции. Именно здесь существует в развернутом виде весь «треугольник» сил (народ - власть - интеллигенция) и весь набор крайностей и расколов, вынесших на поверхность наиболее радикальные течения, которые истолковали свой долг перед народом как обязанность подчинить народ своему радикализму. После кровавых «репетиций» 1905 года попытки отрезвления оказались неудачными, возможно, потому, что носили явный мистический оттенок - впрочем, как и радикализация (ужас и восторг перед «грядущими гуннами»).
Реализация интеллигентского мазохизма и жертвенности оказалась на деле куда более страшной и банальной. Мавр сделал свое дело, и ему оставалось только уйти со сцены. В ситуации тотальной бюрократизации постреволюционного общества интеллигенция имела лишь выбор между физической гибелью (относя сюда и эмиграцию) и гибелью социальной - как особого слоя, функции и мифа. В функциональной системе, именовавшейся реальным социализмом, интеллигенция утратила свою идентичность; насмешкой судьбы можно считать сохранение ее имени для обозначения определенной рубрики в таблице социально-профессиональных позиций. Наличие высшего образования или принадлежность к группе «преимущественно умственного труда» в статистических отчетах не составляет основы какого-либо функционального или морального единства, как не дает и принадлежности к элите общества. В отличие от западных обществ образованные группы в нашем занимают невысокие позиции на шкалах доходов и социального престижа.
И все же гонимый или потаенный дух интеллигенции и интеллигентности не исчез полностью. В призрачном, фантомном виде он сохранился в скрытом сопротивлении, туманных надеждах и настойчивых стремлениях сохранить высоты культуры перед лицом торжествующей бюрократии и полуобразованности массы.
Некоторые из современных социокультурных процессов кажутся возрождением определенных функций и структур «классического» интеллигентского существования, правда, при существенно изменившихся масштабах и значениях действий. В активное движение, вдохновляемое надеждами на развитие интеллектуальной свободы и реализацию новой - а точнее, извечной - социально-просветительской миссии, вовлечена сравнительно небольшая часть «образованщины», в основном ряд представителей гуманитарных дисциплин и академической науки, искусства, литературы, прессы. Сегодня это прежде всего миссия просвещения самой власти (как бы воспроизведение ситуации старого просветительства) и лишь в самой малой мере - просвещения масс.
Вероника Гаррос
Слово интеллигенция непереводимо, а явление, обозначенное им, неопределяемо. Впрочем непереводимость - свойство и самого явления. В этом смысле понятие интеллигенции - предварительное понятие, понятие-предчувствие.
Оно появилось как русское заимствование в определенный момент западной истории (во Франции в 20-х годах, вероятно, по следам русской революции). Но что значит «заимствование»? (Моше Левин, например, размышляет об одном из последних непереводимых слов: «Термин перестройка вошел в мировой политический словарь не только потому, что он отражает реальное содержание большой и сложной задачи, стоящей перед Советским Союзом, но и потому, что эта же задача стоит, хотим мы этого или нет, и перед всем миром».) Когда и почему понятие «чужое», «чуждое» (именно непереводимое) оказывается потребностью всемирной истории? Каковы те медленные эволюционные процессы или, напротив, резкие социально-исторические повороты, которые, чтобы осмыслить себя, вдруг прибегают к заимствованиям из иных культур? Когда реальность уникальна настолько, что определяющее ее слово непереводимо, а потребность определить - неотложна? Наконец, не ставит ли проблема заимствования и перехода из одного языка в другой (учитывая дальнейшее использование и развитие терминов) под сомнение иллюзию изначально подразумевающейся ими общей истории?
Интеллигенция - это «русское заимствование» требует или по меньшей мере напрашивается на сопоставление с родственным французским явлением уже потому, что явление это со времен дела Дрейфуса и памятного «Манифеста интеллектуалов» в газете «Аврора» имело собственное слово, определяющее его, - интеллектуалы.
В общих чертах русская интеллигенция может быть определена решительной безнадежностью Адорно, утверждавшим после геноцида второй мировой: «Интеллигентность - нравственная категория». Но все же (а может, и прежде всего) она определяется следующим парадоксом: по определению, она противится всякому определению, и это ее свойство - основа ее бытия. Возьмем за точку отсчета ее упорное нежелание быть заключенной в жесткие рамки социологических категорий - хотя бы уже потому, что в данном случае она рассматривалась бы как стабильное явление. Иначе говоря, является ли интеллигенция как феномен, появившийся исторически сравнительно недавно, чем-то раз и навсегда данным?
«По уровню бескультурья и лени мы живем почти во времена Меровингов. Надо поистине обладать охотничьим чутьем, чтобы выискивать интеллигентов (…)». Горькая ирония, выразившаяся на страницах популярного французского еженедельника, проводившего недавно анкетирование, могла бы показаться почти банальной, не будь в ней привкуса отчаяния. «Пустота», «отсутствие», «отступление», «деградация», «опустошенность», «все в прошлом» - даже частота употребления подобного лексикона характерна (заметим попутно, что термин «кризис» в нем отсутствует). Анкетирование было чисто журналистским, но оно не утрачивает от этого своей значимости, давая пищу для размышлений. Особенно примечательны результаты опроса об «интеллектуальной власти во Франции», согласно которым пальма первенства отдается Бернару Пиво, ведущему популярной литературной телепрограммы, и Клоду Леви-Стросу. Современность и груз истории, посредничество и творчество уживаются друг с другом, смешиваются и, кажется, со временем превращают в повседневность явления самого разного порядка: понятия «информационного взрыва» и «информационного выбора»; движение к новому подъему недооценивавшихся прежде радио, прессы, ТВ, родившееся в недрах университетского кризиса 70-х годов; наконец, тот факт, отмеченный Пьером Нора, что неологизм «интеллектуал» возник во Франции одновременно с понятием «событие». Если вдуматься, то и сам главный вопрос анкеты: «Кому принадлежит интеллектуальная власть?» - не менее красноречив, чем ответы на него. То же чувствуется и в горько-сладком комментарии одного из победителей опроса К. Леви-Строса, который будто бы не принимает как результаты анкеты, так и самую действительность: «…я принадлежу к прошлому веку… и если мое имя повторяется чаще других, то только потому, что я мешаю меньше других».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: