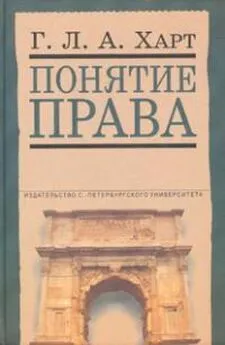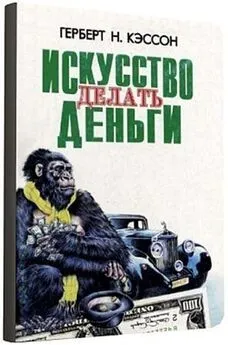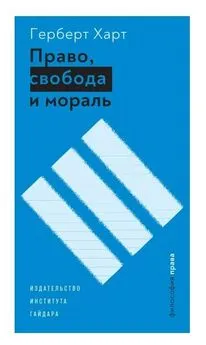Герберт Харт - Понятие права
- Название:Понятие права
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Издательство Санкт-Петербургского университета
- Год:2007
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-288-04211-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Герберт Харт - Понятие права краткое содержание
Знакомство с ее содержанием необходимо для специалистов-правоведов, преподавателей юридических вузов и факультетов и всех, интересующихся философией права.
Понятие права - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Тогда в чем же состоит правовое признание обычая? Что же в таком случае придает обычному правилу правовой статус, если это не решение суда, который применил его в конкретном деле, и не молчаливый приказ верховной законодательной власти? Возможно ли, чтобы он стал законом, подобно статуту, еще до того, как применен судом? На эти вопросы можно дать исчерпывающий ответ только после подробного рассмотрения доктрины, согласно которой закон имеет место лишь в том случае, когда он устанавливается явными или молчаливыми приказами суверенного лица или лиц. Об этом речь пойдет в следующей главе, пока же подведем итоги этой главы, которые сводятся к следующему.
Теория права как принудительных приказов сразу же наталкивается на возражение, согласно которому во всех правовых системах имеют место формы права, которые в трех основных аспектах не соответствуют этому описанию. Во-первых, даже уголовный статут, более всего напоминающий приказ, нередко имеет сферу применения, отличную от той, которую он должен был бы иметь, будь он приказом, адресованным другим; ведь такой закон, наряду со всеми остальными, может налагать обязанности и на его создателей. Во-вторых, другие статуты отличаются от приказов тем, что они не требуют от лиц совершения действий, но напротив, предоставляют им права; они не налагают обязанностей, но открывают возможности для свободного создания юридических прав и обязанностей в пределах принудительной структуры (coercive framework) закона. В-третьих, хотя процедура принятия статута некоторым образом аналогична отдаче приказа, отдельные правила законодательства возникают из обычая, а не получают правовой статус в результате сознательного правотворческого акта.
От этих возражений теорию пытались защитить различными средствами. Исходно простая идея угрозы неблагоприятных последствий (threat of evil) или «санкции» была расширена за счет включения понятия ничтожности юридических сделок; в то же время понятие легального правила было ограничено таким образом, чтобы исключить такие правила, которые наделяют властью; эти последние рассматривались лишь в качестве фрагментов законов; для объяснения самообязывающего эффекта некоторых законов в физически едином законодателе было выявлено два лица; понятие приказа было расширено и стало применяться не только по отношению к устным распоряжениям, но и в связи с «молчаливым» волеизъявлением, которое можно свести к невмешательству в распоряжения подчиненных. При всей изобретательности этих мер модель приказов, подкрепленных угрозами, скрывает в правовой сфере больше, нежели выявляет; попытка свести все разнообразие законов к этой простой и единой форме приводит к тому, что праву навязывается ложное единообразие. На самом деле поиск единообразия в данном случае ведет к ошибкам, ибо, как это будет видно из пятой главы, важнейшей особенностью права является слияние в нем различных типов правил [25].
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ СУВЕРЕН И ПОДДАННЫЙ
Критикуя простую модель принуждающих приказов, мы до сих пор не поднимали вопроса о лице или лицах, обладающих «суверенной» властью, чьи приказы, согласно данной концепции, составляют право в любом обществе [26]. В самом деле, обсуждая адекватность идеи приказа, подкрепленного угрозами, в качестве описания законов различного типа, мы условно предположили, что в любом обществе с правом действительно есть суверен, характеризующийся утвердительно или отрицательно ссылкой на привычку к повиновению. Это лицо или группа лиц отдает приказы, которым большинство общества привычно повинуется, в то время как он сам привычно не повинуется приказам каких-либо других лиц или органов.
Рассмотрим эту общую теорию, касающуюся оснований всех правовых систем в некоторых деталях; ведь, невзирая на крайнюю простоту, доктрина суверенитета не является чем-то меньшим. Она утверждает, что в каждом человеческом сообществе с правом, как в демократическом государстве, так и при абсолютной монархии, в конечном итоге за всем разнообразием форм политической жизни лежит эта простая связь между подданными, которые по привычке повинуются, и сувереном, который привычно не повинуется никому. Эта вертикальная структура, как утверждается в данной теории, столько же существенна для любого общества, в котором существует право, как позвоночник для человека. При наличии такой связи мы можем говорить об обществе и его суверене как независимом государстве, и о его праве. Если же такой связи не существует, мы не можем употреблять ни одно из этих выражений, так как, согласно данной теории, отношения между сувереном и подданными являются составной частью самого их (выражений) смысла.
Два положения этой теории особо важны, и мы уделим им здесь особое внимание в достаточно абстрактной форме перед тем, как наметить те направления критики, которые будут детально рассматриваться в оставшейся части главы. Первое положение касается идеи привычки к повиновению (habit of obedience), — единственного, что требуется от тех, к кому применяются законы суверена. Здесь мы рассмотрим, достаточно ли привычки такого рода для того, чтобы породить две важнейшие особенности любой правовой системы: непрерывность власти создавать право, которая последовательно передается от одного законодателя к другому, и сохранение права в течение длительного периода уже после того, как законодатель и привычно повинующиеся ему подданные ушли в мир иной. Второй особенностью является позиция суверена, который находится выше закона: он создает право для других, налагая обязанности или «ограничения» на них, в то время как сам, согласно этой теории, не является и не может быть ограничен правом. Нам следует выяснить, является ли такой статус неограничимости правом верховного законодателя необходимым условием для существования права, а также может ли наличие или отсутствие правовых ограничений законодательной власти быть понято в простых терминах обычая и повиновения, к которым эта теория сводит данные понятия.
1. ПОВИНОВЕНИЕ ПО ПРИВЫЧКЕ И НЕПРЕРЫВНОСТЬ ПРАВА
Идея повиновения, как и многие другие идеи, не подвергнутые пристальному изучению, выглядят простыми лишь на первый взгляд и не лишены сложностей. Оставим в стороне уже отмеченную сложность, связанную с тем, что слово «повиновение» нередко указывает на уважение к авторитету, а не только лишь подчинение приказам, подкрепленным угрозами. Даже в случае простого приказа, который отдается одним человеком другому, не всегда легко установить, какая именно связь должна быть между отдачей приказа и совершением обозначенного им действия для того, чтобы последнее могло быть названо «повиновение». Например, как связан с этой ситуацией случай, когда человек, которому отдается приказ, все равно поступил бы точно таким же образом и без приказа? Эти затруднения особенно характерны для законов, которые запрещают людям делать такие вещи, которые многие из них и никогда и не подумали бы делать. До тех пор пока это и подобные затруднения не разрешены, идея «всеобщей привычки повиновения» законам той или иной страны выглядит несколько туманной. Однако мы можем, для наших целей, представить себе очень простой случай, когда слова «привычка» и «повиновение», возможно, были бы вполне очевидно применимы.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: