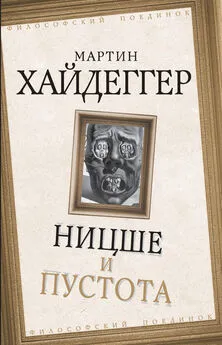Мартин Хайдеггер - Ницше и пустота
- Название:Ницше и пустота
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Алгоритм
- Год:2018
- Город:Москва
- ISBN:978-5-907028-41-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Мартин Хайдеггер - Ницше и пустота краткое содержание
Ницше и пустота - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Поэтому в сочинении «К генеалогии морали», приложенном к сочинению «По ту сторону добра и зла» «в дополнение и пояснение» (годом позже, 1887), в III статье, № 12, Ницше говорит следующее: «“Объективность”, понятая не как “незаинтересованное созерцание” (как таковое бессмыслица и абсурд), но как способность держать во власти свое За и Против, снимая их и навешивая: чтобы уметь делать полезным для познания именно различие перспектив и интерпретаций чувства».
«Существует только перспективное зрение, только перспективное «познание»; и чем больше чувств говорит нам о какой-либо вещи, чем больше глаз, разных глаз мы умеем направить на ту же вещь, тем полнее станет наше “понятие” этой вещи, наша “объективность”».
Чем легче то одно, то другое чувство может быть введено в игру, тем больше можно по потребности и на пользу увидеть – предвидя, рассчитывая и тем самым планируя .
Во внимании к особому акценту на перемене, сделавшей человека в начале новоевропейской метафизики «субъектом», и с учетом роли, доставшейся тогда в новоевропейской метафизике субъективности, могло бы возникнуть мнение, что внутреннейшая история метафизики и смены ее принципиальных позиций есть лишь история изменения человеческого самопонимания. Такое мнение полностью соответствовало бы обычному сегодня антропологическому образу мысли. Оно, однако, даже подсказываемое и подталкиваемое, казалось бы, предыдущими соображениями, было бы ложным мнением, а именно ошибкой из тех, какие надо преодолевать.
Поэтому в данном месте, после подведения итогов сравнениям между Протагором и Декартом, с одной стороны, между Декартом и Ницше – с другой, надо предваряющим образом указать на сущностное основание историчности истории метафизики – как истории истины бытия. Это указание позволит одновременно прояснить одно различение, которым мы уже неоднократно пользовались: различение между обусловленной и безусловной субъективностью. Это различение потребуется также и для тезиса, предлагаемого больше, чем просто как утверждение: метафизика Ницше в качестве завершения новоевропейской метафизики есть одновременно завершение западной метафизики вообще и тем самым – в определенном правильно понятом смысле – конец метафизики как таковой.
Сущностное определение человека и существо истины
Метафизика есть истина о сущем как таковом в целом. Основополагающие позиции метафизики получают поэтому свое основание в том или ином существе истины и в том или ином сущностном истолковании бытия сущего. Новоевропейская метафизика, под знаком которой стоит или, во всяком случае, неизбежно кажется стоящей наша мысль, в качестве метафизики субъективности склоняет думать, что само собой разумеется, что существо истины и истолкование сущего определяются человеком как собственно субъектом. При более серьезном осмыслении оказывается, однако, что субъективность обусловлена существом истины как «достоверности» и бытием как представленностью. Мы видели, как развертывается представление в полноте его существа и как лишь внутри него – как лежащего в основе – человек, прежде всего как Я, превращается в субъект в более узком смысле. Что человек при этом становится исполнителем и распорядителем и даже обладателем и носителем субъективности, никоим образом не доказывает, что человек есть сущностное основание субъективности.
Соображения об истоке субъективности могли приблизить нас к одному вопросу, на который мы должны указать в теперешнем месте наших рассуждений. Вопрос гласит: не является ли всякое истолкование человека и тем самым историческое бытие человека каждый раз лишь сущностным следствием того или иного «существа» истины и самого бытия? Если дело обстоит так , то существо человека никогда не может быть определено с достаточной изначальностью через прежнее, т. е. метафизическое , истолкование человека как разумного живого существа, animal rationale, все равно, ставят ли люди при этом на первое место rationalitas (разумность и сознательность и духовность) или animalitas, животность и телесность, или просто каждый раз ищут между тем и другим тот или иной приемлемый баланс.
Вникание в эти связи – отправной пункт трактата «Бытие и время» (Одна из главных работ Хайдеггера. – Ред .). Существо человека определяется из существа (глагольно) истины бытия через само бытие.
В трактате «Бытие и время» сделана попытка на основе вопроса об истине бытия, уже не об истине сущего, определить существо человека из его отношения к бытию и только из этого отношения, каковое существо человека характеризуется там, в строго очерченном смысле, как присутствие (Da-sein). Несмотря на одновременное, ибо требуемое делом, развертывание более изначального понятия истины, ни в малейшей степени не удалось (за протекшие с тех пор 13 лет) пробудить хотя бы какое-то первичное понимание этой постановки вопроса . Почва непонимания лежит прежде всего в неискоренимой, упрочивающейся привычке к новоевропейскому образу мысли: человек мыслится субъектом; всякое осмысление человека понимается как антропология. С другой стороны, однако, почва непонимания заложена в самой предпринятой попытке, которая, будучи все же, наверное, чем-то исторически выросшим, а не «сделанным», исходит из прежнего, но от него отрывается и тем самым неизбежно и постоянно все еще отсылает на прежнюю колею, даже зовет ее на помощь, чтобы сказать что-то совсем другое. А главное, этот путь обрывается на решающем месте. Обрыв этот обоснован тем, что проложенный путь, предпринятая попытка невольно ведут к опасности снова стать лишь упрочением субъективности, так что встают помехой решающим шагам, т. е. их удовлетворительному изображению в существенном. Всякое обращение к «объективизму» и «реализму» остается «субъективизмом»: вопрос о бытии как таковом стоит вне субъект-объектного отношения. В истолковании человека как animal rationale, разумного живого существа, привычном для Европы, человека понимают прежде всего в кругу animalia, живых существ. Этому сущему, занимающему такое место, приписывается затем как отличительная и различительная черта его животности, против таковой простых животных, вдобавок еще «логос» или ratio, разум.
Конечно, в «логосе» залегает отношение к сущему в его бытии, что видно из связи между «логосом» и «категорией». Но отношение это не оценивается в своей значимости как таковое. «Логос» понимается просто как способность, разрешающая живому существу «человек» высшее и расширенное познание, тогда как животные остаются «неразумными» живыми существами. Что существом истины, т. е. бытия, и отношением к нему определяется существо человека, причем так, что ни животности, ни разумности, ни тела, ни души с духом, ни всех их вместе не хватает, чтобы понять существо человека в его начале, об этом метафизика ничего не знает и не может ничего знать.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: