О религии Льва Толстого
- Название:О религии Льва Толстого
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Путь
- Год:1912
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
О религии Льва Толстого краткое содержание
О религии Льва Толстого - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Можно было бы и еще отметить черты согласного понимания евангельских заповедей и устроения христианского быта у великого учителя Церкви и Л. Н. Толстого. Так они согласно смотрят на основы права собственности, в частности на то, что земля не должна входить в частное владение [82] Подробное изложение взгляда св. Иоанна на собственность можно читать в моей книжке «Учение древней Церкви о собственности», стр. 42—50, 113—139, 195—246.
, одинаково отрицают клятву в христианской жизни [83] Напр. Творения св. Иоанна в русск. пер. т. 12, «Слово о клятве», стр. 726—733, особенно стр. 729 и множ. др.
, согласно смотрят на преимущества бедности [84] «Учение древней Церкви о собственности», стр. 139—143.
, на ненормальности жизни в городе [85] Напр., т. 1, стр. 53 и др.
, преимущества рабочей трудовой жизни [86] Напр., т. 7, стр. 550.
, на характер христианской жизни, как бы по природе страннической [87] Напр., т. 7, стр. 706.
и т. д. Подробно, однако, останавливаться на этих чертах сходства этических воззрений двух проповедников христианского учения нам не представляется нужным. Много у них есть общего, много и различного. Мы ограничиваемся указанным согласием сравниваемых проповедников христианского нравственного учения по вопросу о жизненном значении заповедей Христовых. Как бы ни было велико различие св. Иоанна и гр. Толстого во всех остальных отношениях и в понимании частных заповедей Господа, но согласие двух столь различных моралистов в понимании такого великого жизненного вопроса имеет самое существенное значение для нашего времени, и потому заслуживает быть отмеченным.
Графа Толстого отделяет от св. Иоанна Златоустого полторы тысячи лет, но решают они один и тот же, центральный для христианской совести, вопрос о жизни по вере Христовой. И, конечно, удивительно здесь не то, что решается один и тот же вопрос: без сомнения, если бы прошли десятки тысяч лет, вопрос этот все равно неотступно стоял бы перед совестью людей и требовал бы своего разрешения. Удивительно то, что граф Л. Н. Толстой, проповедуя, что Христос Спаситель учил людей для того, чтобы они исполняли Его учение и на основе этого учения построяли свою жизнь, — проповедуя это, Л. Н. Толстой был искренно убежден, что он предлагает новое, сравнительно с церковным, понимание отношения Евангелия к жизни. Что же это такое? Русская церковь всегда была единомысленна с греческой; творения святых отцов церкви, и особенно св. Иоанна Златоуста, тщательно изучались в России, и авторитет их стоял всегда высоко. Согласно со св. Иоанном учили и все великие церковные учители. И вдруг гр. Толстой как бы откровение какое возвещает миру, что Христос учил людей для того, чтобы Его последователи исполняли Его учение. И не один граф Толстой так думал. Широкие интеллигентные круги русского общества также приняли его слово за новое откровение. Но и этого мало: наше богословие в лице очень и очень многих его представителей с величайшей горячностью начало опровергать и этот пункт в учении гр. Толстого, и с особенною любовью и ревностью, достойными лучшей участи, начало доказывать, что без убийства, побоев, войны, клятвы и т. д. мир существовать не может. Конечно, голос нашего богословия, при том далеко не единодушный, не есть голос Церкви вселенской. Но все-же нередко самые удивительные вещи выдавались нашими богословами за церковное учение, а их сан и ученые дипломы легко могли заставить читателей поверить тому, что и действительно разные богословские измышления выражают церковное сознание. Верил же этому сам Л. Н. Толстой… Получается поражающая картина. Пятнадцать веков назад великий христианский проповедник со всею силою убежденности доказывал, что заповеди Господа, как они выражены в Нагорной беседе, могут и должны быть исполняемы в Церкви Христовой. Ревностно обличал св. Иоанн неправый путь жизни человечества и призывал горячо и неустанно вступить на путь последования Христу. Прошли полторы тысячи лет, и эту самую мысль также горячо и неустанно защищает граф Толстой, но уже не столько обличая членов Церкви, сколько самую учащую церковь. Конечно, произошло страшное недоразумение: гр. Толстой смешал голос Церкви с голосом отдельных ее представителей. Но все же нельзя закрывать глаза на то явление, что и пятнадцать веков спустя после св. Иоанна, а верней — 19 после проповеди в мире Евангелия, находятся люди, которые от лица Церкви доказывают и убеждают, что евангельские заповеди, как бесконечно высокие, неприложимы к нашей жизни во всей их чистоте. На первый взгляд может показаться, что христианское самосознание как бы понизилось. Но верится, что это не так, и полторы тысячи лет не прошли бесплодно для христианизации человеческого сознания. В самом деле, в лице св. Иоанна и других святителей древней Церкви мы имеем великих христианских учителей, мысль которых высоко-высоко поднималась над уровнем широких кругов их современников. Поэтому и произошло так, что жизнь далеко отстояла от возвещаемой учителями церкви истины, и эта жизнь, человеческий эгоизм и плотяность не только не были, по-видимому, побеждены призывом великих церковных учителей, но укоренялись, и прямое нарушение заповедей Христовых вошло в самый быт жизни христианской как нечто законное, извиняемое немощностью человеческой природы и устоями человеческих общежитий. Поэтому также остро, а может быть и еще острее ставится для нашего сознания проблема о разладе между жизнью и идеалом. Но однако самая проблема ставится уже не только с высоты церковной кафедры, но и из недр народного сознания.
Говорил один граф Толстой, но отвечали ему тысячи сердец. Велико и теперь расстояние жизни христианского общества от ее евангельской нормы, больше, быть может, чем во дни св. Иоанна. Но совесть народная, эти глаза сердца, уже видят это расстояние, плачут от сознания своего убожества, готовы иногда осудить себя, иногда отвергнуть, и даже с ненавистью, идеал, но совесть современного сознательного христианина уже не может лгать и не захочет лгать. Она может простить гр. Толстому его заблуждения и Богу предоставить суд над его кощунством. Но эта совесть никогда не признает учителями истины тех, которые говорят от имени Христа, но говорят не то, чему Он учил. И в этом отношении проповедь Л. Н. Толстого не пройдет бесследно. Толстой не учитель Церкви. Та «часть истины», которая прошла через его сознание [88] Хочется привести здесь слова самого Толстого, могущие служить действительно руководящими в отношении к нему. «Я прошу всех тех, которые будут читать и понимать мое писание, откинув так же, как и я, все светские соображения, имея в виду только то вечное начало истины и добра, по воле которого мы пришли в этот мир, и очень скоро, как телесные существа, исчезнем из него, и без поспешности и раздражения понимать и обсуждать то, что я высказываю, и в случае несогласия не с презрением и ненавистью, а с сожалением и любовью поправлять меня; в случае же согласия со мной помнить, что если я говорю истину, то истина эта не моя, а Божия, и что только случайно часть ее проходит через меня, точно так же, как она проходит через каждого из нас, когда мы познаем истину и передаем ее» («Христианское учение», предисловие).
, уже с первых веков христианства заключена в творениях великих провозвестников церковного учения, и заключена во всей полноте, потому что утверждается на живом камне, который есть Христос, Единородный Сын Божий. Но гр. Л. Н. Толстой — это живой укор нашему христианскому быту и будитель христианской совести. Дремлет эта совесть… Высоко поднимаются храмы христианские и много их по лицу земли, — этих символов того, что победил Галилеянин. Но вне стен этих храмов жизнь течет по своим законам, глубоко враждебным тому, что возвещается в Евангелии, и приносятся непрестанные жертвы богам иным. И усыпляется совесть этим мнимо-христианским бытом, и сладко сознание, что можно считать себя последователем Христа, сделав Его крест украшением своей жизни, но не нося на себе тяжести этого креста. Дремлет совесть, и не нарушает покоя ее слабый голос церковных проповедников. Этот голос не только легко заглушается шумом мира, но нередко и сам сливается с ним и начинает учить, следуя «заповедям, преданиям человеческим». Много, слишком много есть в нашей повседневной проповеди от лица Церкви такого, что делает эту проповедь лишенной внутренней силы и убедительности; уныло звучат слова наши о любви к Богу, о жизни в Нем одном, о следовании заповедям Его. Не будит эта проповедь дремлющих сердец, не влечет к себе душу, погибающую в суете мира… Но раздалось это же слово о жизни в Боге и по Его закону из уст великого писателя родной земли, и к нему прислушивается мир; как удары призывного колокола несутся его слова по миру и ударяют в сердца, будят дремлющие силы человеческого духа и зовут их могучим призывом на дело Божье. Правда, и эти слова еще непонятны и часто неприятны миру, но все-таки есть что-то, что делает эти непонятные слова родными для человека, привлекающими сердца людей своею искренностью, личной выстраданностью, какою то общечеловеческой правдой. И в лучах этой правды ясным делается весь ужас современного уклада христианской жизни и виднеется, хотя сквозь туман ошибок и заблуждений, новая обетованная земля, на которой царствует воля Божья.
Интервал:
Закладка:
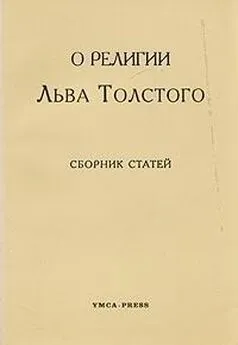


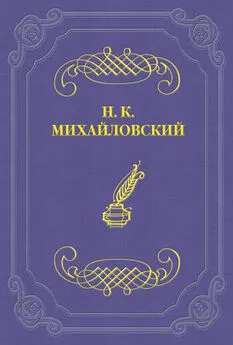

![Бен Хеллман - Северные гости Льва Толстого: встречи в жизни и творчестве [litres]](/books/1147786/ben-hellman-severnye-gosti-lva-tolstogo-vstrechi.webp)

