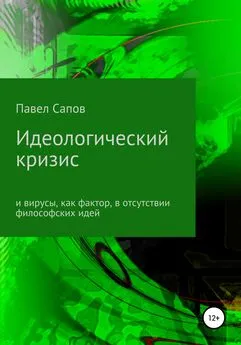Людмила Микешина - Философские идеи Людвига Витгенштейна
- Название:Философские идеи Людвига Витгенштейна
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:1996
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Людмила Микешина - Философские идеи Людвига Витгенштейна краткое содержание
Философские идеи Людвига Витгенштейна - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Так что в случае правил, особенно математических, представляется, на первый взгляд, совершенно очевидным, что тут смысл или значение никак не сводятся к употреблению.
Однако Витгенштейн берется спорить и с этим на первый взгляд очевидным утверждением. Оно для него не только не очевидно, но и вообще неприемлемо. В результате вырисовывается чрезвычайно нетривиальная и (оборотная сторона нетривиальности) неочевидная трактовка правил, предлагаемая Витгенштейном. Она разрывает и с представлениями здравого смысла, и с респектабельными философскими традициями. Совершенно не случайно в ходе его рассуждений возникает парадокс, формулируемый в § 201: никакой образ действий не детерминируется правилом, ибо любой образ действий может быть поставлен в соответствие данному правилу. Надо сказать, что Витгенштейн вообще большой мастер на эпатирующие утверждения. Чего стоят, например, его утверждения, что нет абсолютно ничего страшного в противоречиях, которые могут содержаться в основаниях математики, или что логические парадоксы примечательны только тем, что показывают, из-за какой ерунды могут беспокоиться люди. Конечно, Витгенштейн не останавливается на парадоксе из § 201, но дает его разрешение, которое может кому-то показаться не менее парадоксальным и неприемлемым, чем сам парадокс.
Рассуждения Крипке необходимы для нас сейчас потому, что помогают понять новаторское содержание и глубину утверждений Витгенштейна, высвечивая прежде всего их неочевидные и сильные следствия. Во многом этому способствует именно придуманный им необычный пример с "плюсом" и "квусом". Крипке тоже эпатирует читателя, чтобы произвести на него впечатление, заставить задуматься и потом уже повести за собой в поисках решениях проблемы.
Крипке показывает, что если рассматривать одного отдельно взятого человека , то ни состояние его сознания, ни все его внешнее поведение до настоящего момента не дадут нам фактов, подтверждающих, что под сложением он понимает ту операцию, которая в применении к 68 и 57 дает 125, а не 5. Крипке делает вывод, что нет никаких фактов относительно осуществляющего сложения субъекта , которые показывали бы, что именно он подразумевает под "+". Отсюда и вытекает скептический парадокс, который затрагивает не только философию математики, но и понимание языка. Получается, что нет фактов, которые бы показывали, что именно значит для человека любое слово и как он будет применять его в новых ситуациях. Но таким образом под вопросом оказывается и возможность языковой коммуникации. "Витгенштейн изобрел новую форму скептицизма. Лично я считаю, что это самая радикальная и оригинальная философская проблема из всех до сих пор известных в философии. Поставить ее мог лишь необычный по складу ум. Однако он не хотел оставить нас с этой проблемой, но разрешил ее, ибо скептическое заключение безумно и непереносимо" [67] Kripke . Op. cit. P. 60.
.
Данное решение составляет основу витгенштейновской критики персонального языка, но в то же время имеет независимое от этой критики значение. В интерпретации Крипке проблема, поставленная Витгенштейном, состоит вовсе не в том, чтобы показать, почему невозможен персональный язык, но в том, чтобы показать, почему возможен язык человеческой коммуникации. Витгенштейн, по мнению Крипке, согласился бы со скептиком в том, что нет никаких особых философских фактов относительно сознания субъекта, которые конституировали бы значения употребляемых им слов (ср. § 192). Но в §§ 183-193 он показывает, что сама идея, будто подобные факты нужны для анализа значения языковых выражений или следования правилу, вытекает из ошибочных философских представлений.
Витгенштейн - как это объясняет Крипке - не призывает отказаться от фраз типа "Для Джона "+" значит то-то и то-то", "Джон понимает под сложением то-то и то-то". Он просто показывает, что подобные утверждения не требуют специального философского обоснования, вроде теории значения или теории математических сущностей. В своем обыденном употреблении подобные фразы и не нуждаются ни в каком оправдании.
К чему же мы приходим таким образом вместе с Крипке? К тому, чтобы, отбросив всевозможные философские допущения и усложнения, признать, что человек следует арифметическому правилу для операции сложения тогда, когда, по мнению большинства здравомыслящих людей, умеющих складывать, он делает именно это. "Если рассматривать одного человека изолировано, то понятие правила как того, чем он ведом в своих действиях, не может иметь никакого содержания" [68] Ibid . P. 89.
. Но ситуация меняется, если включить в рассмотрение языковое сообщество. "Другие люди знают условия, оправдывающие или не оправдывающие утверждение, что этот человек следует правилу..." (там же). А условия, о которых идет речь, - это всем известные обстоятельства, при которых говорят, например, что ребенок выучился считать. Тут вовсе не требуется вскрывать таинственное, скрытое и "бесконечное" содержание арифметической операции. Если ребенок получает результаты, совпадающие с общепризнанными, достаточно часто, то его считают овладевшим операцией. Индивид, чьи результаты и реакции достаточно часто не совпадают с принятыми в сообществе, не будет считаться действующим по правилу, независимо от того, что он считает сам. Такой индивид исключается из многих типов общественного взаимодействия. В связи с этим Крипке еще раз привлекает внимание к тем разделам "Философских исследований", в которых подчеркивается важность согласия и разделяемых сообществом форм жизни для работы языка: речь идет о §§ 240-242.
Таким образом, говоря на обыденном языке, что данный человек следует правилу, мы не приписываем ему никакого специального "состояния сознания", но делаем нечто более важное: включаем его в наше сообщество - до тех пор, конечно, пока его поведение не даст повода для его исключения. Подобное описание "языковой игры" приписывания субъекту следования таким-то правилам и составляет, по мнению Крипке, суть витгенштейновского анализа данного понятия.
Крипкевская интерпретация следования правилу часто критиковалась в западной литературе за субъективизм и релятивизм. Так известные витгенштейноведы Дж.Байкер и П.Хакер [69] Baker G.R., Hacker P.M.S. Scepticism, rules and language. Oxford: Blackwell, 1984.
считают, что крипкевская интерпретация уничтожает объективность логики и математики, ибо у Крипке оказывается, что сообщество всегда применяет правила правильно, раз оно само и является гарантом правильности. Тем самым объективность отождествляется с фактическим поведением сообщества, а нормативность правил логики, математики или лингвистики подменяется статистическими представлениями. И приговор Бейкера и Хакера звучит так, что скептические выводы Крипке не столько убедительны сами по себе, сколько созвучны скептическим и культурно-релятивистским установкам современной философии.
Интервал:
Закладка:



![Людвиг Витгенштейн - Философские исследования [litres]](/books/1057650/lyudvig-vitgenshtejn-filosofskie-issledovaniya-litre.webp)