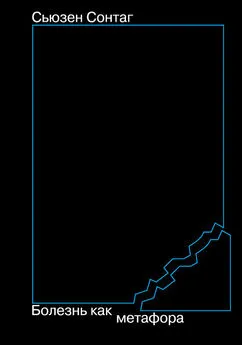Сьюзен Зонтаг - Болезнь как метафора
- Название:Болезнь как метафора
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Ад маргинем
- Год:2016
- Город:Москва
- ISBN:978-5-91103-308-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сьюзен Зонтаг - Болезнь как метафора краткое содержание
Спустя десять лет, со вспышкой новой стигматизированной болезни, изобилующей мистификациями и карательными метафорами, появилось продолжение к «Болезни…» – «СПИД и его метафоры» (1989) – эссе, расширяющее поле исследования до пандемии СПИДа.
В настоящей книге представлены обе работы, в которых Сонтаг показывает, что «болезнь не метафора и что самый честный подход к болезни, а также наиболее “здоровый” способ болеть – это попытаться полностью отказаться от метафорического мышления».
Болезнь как метафора - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В несовременной медицине болезнь описывается как интуитивный опыт, как отношение внешнего и внутреннего: внутреннее ощущение или нечто различимое с помощью зрения (либо прячущееся под кожей и обнаруживаемое с помощью прослушивания и пальпации), подтверждаемое, когда внутренности открываются взору (во время операции или вскрытия). Для современной – то есть результативной медицины – характерны значительно более сложные представления о том, что мы видим внутри тела: не только последствия болезни (поврежденные органы), но и ее причины (микроорганизмы), и значительно более хитроумная типология болезней.
Во времена кустарных диагнозов врач выносил свой вердикт сразу же после осмотра. Теперь же медицинский осмотр предполагает сдачу анализов. Анализы же требуют времени, и это время, учитывая тот факт, что медицинские лаборатории работают по графику, как промышленные предприятия, может растянуться на недели: мучительнейшая задержка для тех, кто ожидает смертного приговора или оправдания. Многие неохотно сдают анализы из боязни вердикта, из страха, что их занесут в дискриминационный список или сотворят что-то еще худшее или из фатализма (что проку от анализов?). Сейчас уже повсеместно признано, что самостоятельно выявлять некоторые распространенные типы рака на ранних стадиях, пока болезнь не развилась и не стала фатальной, совершенно бесполезно. Раннее обнаружение болезни, считающейся тяжелой и неизлечимой, не дает больным никаких преимуществ.
Как и прочие заболевания, вызывающие чувство стыда, наличие СПИДа часто держится в тайне, но только не от пациента. Семья часто скрывает от больного раковый диагноз, и столь же часто пациент скрывает от семьи, что у него СПИД. Как и в случаях других серьезных заболеваний, воспринимающихся как нечто большее, чем просто болезнь, многие люди со СПИДом подвергаются комплексному, а не специализированному лечению, считающемуся либо неэффективным, либо чересчур опасным. (Периодически высказывается предложение, опирающееся на взгляды с претензией на просвещенность, пренебречь научной, эффективной медициной ради чисто специализированного и, возможно, токсичного лечения.) Некоторые раковые больные совершают этот пагубный выбор, хотя их болезнь вполне излечима с помощью операции и лекарств. Предсказуемая смесь суеверий и покорности заставляет некоторых людей со СПИДом отказаться от противовирусной химиотерапии, хотя та даже в отсутствие лечения доказала свою эффективность (замедляя развитие синдрома и предупреждая некоторые сопутствующие заболевания.) Вместо этого больные пробуют излечиться самостоятельно, зачастую под руководством какого-нибудь гуру, практикующего «альтернативную медицину». Но очищать изнуренное тело посредством продлевающей жизнь диеты помогает в лечении СПИДа примерно как кровопускание, излюбленное «холистическое» средство во времена Джона Донна.
Этимологически пациент означает страдалец. Страшны даже не сами страдания, а изнурительная мука.
Однако болезнь может быть не только эпопеей страданий, но и возможностью для перехода в трансцендентальное состояние. Это видно из сентиментальной литературы и, что даже еще более убеждает, из историй болезней, составленных врачами-писателями. Некоторые недуги более других располагают к этому виду медитации. Оливер Сакс на материале неврологической болезни изображал страдания и переходы в трансцендентальное состояние, самоуничижение и экстаз. Его великий предшественник, сэр Томас Браун, использовал для схожих целей туберкулез, рассуждая о болезни в «Письме другу, написанном по случаю кончины его близкого друга» (1657) и романтизируя некоторые стереотипы, связанные с туберкулезом: аристократичность болезни («медленно чахнуть») и аристократичность кончины («легкая смерть»). Фантазия о легкой и безмятежной кончине – на самом деле, смерть от туберкулеза часто тяжела и мучительна – часть мифологии болезней, которые не считаются постыдными или унизительными.
По контрасту с легкой смертью от туберкулеза смерть от СПИДа, равно как и рака, сопряжена со страданиями. Метафоризированные болезни, обитающие в коллективном воображении, имеют тяжелые кончины либо представляются таковыми. Однако вызывает ужас не сам летальный исход. Он даже не необходим, как в случае с проказой, возможно, самой позорной из всех болезней, при этом чаще всего не смертельной и практически не заразной. Рака боятся больше, чем болезни сердца, хотя у сердечника больше шансов умереть от инфаркта, чем у ракового больного скончаться от рака. Сердечный приступ – это событие, однако он не меняет личность, превращая больного в одного из «тех». Если он и вызывает изменения, то в лучшую сторону: испугавшись, сердечный больной приучается делать гимнастику и садится на диету, ведет более размеренную и здоровую жизнь. Бытует мнение, что таким образом он обеспечивает себе легкую, то есть мгновенную, смерть.
Самые страшные болезни – это те, что воспринимаются не просто как летальные, а как лишающие человеческого обличья. В страхе перед бешенством во Франции XIX века с бесчисленными случаями мнимого заражения новоявленной «звериной» формой бешенства и даже «стихийным» бешенством (подлинные случаи бешенства, la rage, были чрезвычайно редки) отразилась фантазия, будто инфекция превращает людей во взбесившихся животных – сексуально разнузданных, – однако не факт, что болезнь была неизбежно фатальной до того, как Пастер изобрел вакцину в 1885 году. Хотя от холеры в Западной Европе в XIX веке скончалось меньше людей, чем от оспы, ее боялись значительно больше из-за внезапности заражения и унизительных симптомов: диареи и рвоты, предрекавших ужасы посмертного разложения. За несколько часов организм обезвоживался, и больной усыхал, превращаясь в карикатуру на себя самого. Его кожа приобретала синевато-черный оттенок (во Франции по сей день панический, леденящий страх обозначают эпитетом bleue, голубой), тело холодело и в тот же день или вскоре после того наступала смерть.
Последствия полиомиелита могут быть ужасающи – он скручивает тело, – однако плоть при этом не гниет и не приобретает страшных отметин, потому эта болезнь не производит отталкивающего впечатления. Более того, полиомиелит поражает только тело, хотя и довольно сильно его уродует, но не лицо. Причина такой относительно адекватной, неметафорической реакции на полиомиелит – привилегированный статус лица, играющего ключевую роль в нашей оценке физической красоты или физического уродства. Современная философия и современная наука всячески разоблачают картезианское разделение разума и тела, однако убеждение о разделении лица и тела слишком прочно укоренено в культуре и влияет на нюансы нашего поведения, моду, сексуальную оценку, эстетическую восприимчивость – практически все наши понятия правомерности. Это разделение – суть одной из основных европейских иконографических традиций, изображения христианской жертвы, разрыв между выражением лица и страданием тела. Бесчисленные образы Святого Себастьяна, Святой Агаты, Святого Лоуренса (но не самого Христа) – их бесстрастные лица символизируют превосходство над издевательствами над плотью. Внизу – разрушенное тело. Вверху – человек, воплощенный в лице, словно отрешенный от этого мира, с глазами, устремленными в небеса. В его чертах нет ни боли, ни муки, кажется, будто святой пребывает где-то далеко. (Страдания отражены на лице лишь у Христа, Сына Человеческого и Сына Божия, во время Страстей Господних.) Само наше представление о человеке, о его достоинстве зависит от отделения лица от тела [52], от возможности выделить лицо в отдельную категорию, либо оно выделится самостоятельно и его не затронут процессы, происходящие с телом. И летальные болезни вроде сердечных приступов и гриппа, не повреждающие и не деформирующие лица, не вызывают панического страха.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: