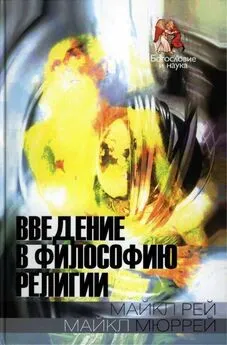С Франк - Непостижимое (Онтологическое введение в философию религии)
- Название:Непостижимое (Онтологическое введение в философию религии)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
С Франк - Непостижимое (Онтологическое введение в философию религии) краткое содержание
Непостижимое (Онтологическое введение в философию религии) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Но это значит: раз мир поставлен нами в связь с Первоначалом, с Божеством, т.е. воспринят в связи и в единстве с Первоначалом, он есть для нас уже нечто большее и иное, чем "только мир". Ибо именно этим преодолен при сохранении самого мира - его специфически "мирской" характер, преодолена его неосмысленность, его чистая фактичность и безличность, его индифферентность к началу правды. Мир в единстве с Богом, - мир как мир-в-Боге, есть уже нечто иное, чем мир "сам по себе" (подобно тому как предметное бытие, раз мы уже достигли глубины божественной реальности, превращается для нас из темной, страшной бездны в твердую и родную почву ср. выше гл. VIII, 3). Если перед лицом непостижимой трансрациональности отношения между Богом и миром мы и должны были отвергнуть рационалистически понимаемую идею "эманации", то теперь мы должны, с другой стороны, учесть долю содержащейся в ней истины, именно поскольку в ней выражена обратная сторона этой же трансрациональности. Мир не есть нечто тождественное или однородное Богу; но он не может быть и чем-то совершенно иным и чужеродным Богу в отвлеченно логическом смысле такого различия, которое исключало бы внутреннее единство и сродство. Подлинное отношение между Богом и миром так же как отношение между Богом и "мною" (ср. гл. IX) - может быть понято только в форме трансрационально-антиномистического монодуализма - как внутреннее единство двух или как двойственность одного. Это применимо как в отношении существа мира, так и в отношении его бытия.
Что касается первого, т.е. существа мира, то нам достаточно здесь лишь коротко напомнить о том, что нам уже уяснилось выше (гл. VIII, 7). Инаковость мира Богу не исключает сходства или сродства между ними - правда, сходства, которое не может быть отождествлено с обычным сходством. Бог как начало "совершенно иное" "просвечивает" все же символически в мире, так что мы его видим в мире, как "зерцалом в гадании". Если мир именно в своем "мирском" начале резко отличается от всего "осмысленного", т.е. от самого Первоначала как "Смысла", именно своей неосмысленностью, своей индифферентностью к Ценности и Правде, - если он в этом смысле - в противоположность к внутреннему существу человечности - и не есть "образ и подобие Божие", - то, с другой стороны, в его связи с Богом, в его отражении Бога и, тем самым, в его сродстве со мною, который в каком-то отношении все же принадлежу к миру и образую с ним некое единство, имею с ним некую точку конвергенции, - т.е. в его гармонии, в органическом единстве его строения, он все же есть некое отдаленное подобие Бога. Мы это непосредственно чувствуем всякий раз, как воспринимаем его красоту (и в этом и состоит смысл красоты - ср. гл. VIII, 2), - всякий раз, когда мы воспринимаем мир в составе живого опыта целостной реальности как таковой (ср. гл. III, 4). Как время есть, по словам Платона, "подвижный образ вечности, пребывающей в покое", так и подвижное, изменчивое, неосмысленное, внутренне антагонистическое пестрое многообразие мира есть вместе с тем гармоническое, органическое единство, осмысленный порядок. В этом мире есть отблеск "славы" Божией; и, как уже указано, античное мироощущение, которому мир представлялся Космосом, божественным существом, в этом смысле вполне правомерно, поскольку оно лишь не вытесняет в нас сознания "истинного", именно "совсем иного", чем мир, Бога. Несмотря на всю противоположность между миром и Богом, мир все же в каком-то - именно эминентно трансрациональном - смысле сущностно подобен Богу. И всякое "огульное" отвержение мира, как какого-то "исчадия адова", всякое отрицание его божественных корней и потому его "Богоподобия" в конечном счете ведет к потере самого религиозного сознания, к слепоте в отношении самой сверхбытийственной реальности Бога, что, впрочем, ясно уже из сказанного выше об установке абсолютного дуализма (гл. VIII, 1 и 3).
Но в первооснове совпадают "сущность" и "бытие", или, вернее, она есть высшее единство, из которого проистекает одновременно и "сущность", и "бытие". Поэтому эминентное метафорическое сущностное сходство между миром и Богом есть вместе с тем эминентное единство их бытия, в отношении которого сама раздельность бытия есть лишь его самораскрытие. Правда, под этим так же мало можно подразумевать числовое единство, как нельзя говорить о сущностно-качественном тождестве между Богом и миром. Это есть именно трансрациональное монодуалистическое единство, в лоне которого уже содержится двойственность. Бог не есть в отношении мира "целое", и мир не есть "часть" Бога. Но в качестве абсолютного Первоначала Бог есть и всеединство, - и притом в том смысле, что всякое разделение, всякое пребывание вне его при этом сохраняется, но сохраняется именно внутри самого всеединства: само "бытие-вне-Бога", - сам момент "вне" и "отдельно" находится в Боге, как и вое вообще. Напомним опять глубокое изречение Николая Кузанского, что непостижимое единство Бога открывается сполна лишь в - антиномистическом - единстве "Творца" и "творения".
Конкретно это уяснится нам, если мы припомним итоги размышления, изложенные уже в гл.III. "Мир" в том смысле, какой мы имеем. здесь в виду, конечно, как уже было указано, не совпадает с намеченными там понятиями "действительности" и "предметного бытия": в отличие от последних он есть реальность, данная в живом целостном опыте. Но понятие мира все же имеет то общее с этими понятиями, что есть единство фактически "данного" или "предстоящего" нам, как бы "навязывающегося" нам, - единство внутренне непрозрачной, извне подступающей к нам и захватывающей нас реальности. В этом отношении к "миру" применимо сказанное там о "действительности" и "предметном бытии" - с той только разницей, что отвлеченно вскрытая там связь здесь непосредственно опытно ощутима, как бы имманентно соприсутствует в самом бытии мира. А именно, мировое бытие укоренено в сверхвременном бытии - в бытии безусловном и, тем самым, во всеобъемлющей реальности. Но это сверхвременное, идеально-реальное бытие, из которого прорастает "мировое бытие" и на которое око опирается, уже как-то стоит на самом пороге первоосновы, Божества. Оно стоит как бы посредине между Богом и миром.
Бесконечно длящийся - со времен Платона и Аристотеля вплоть до онтологии нашего времени - спор "учения об идеях", именно спор о том, принадлежит ли "идеальный мир", (?(((( ((((?(, "умный мир", к Богу или к мировому бытию, трансцендентен ли он миру или ему имманентен, может быть опять-таки адекватно разрешен только трансрационально-монодуалистически: "мир идей" есть то и другое одновременно или не есть ни то, ни другое. В своей последней глубине или в своем первосуществе он совпадает с абсолютным Смыслом и абсолютной Правдой, принадлежит некоторым образом к самому Богу как его самораскрытие в Логосе, но в своем конкретном обнаружении и действии он есть не "из себя самого", не "самоочевиден", в разъясненном выше эминентном смысле, и тем приближается уже к "сотворенному", "мировому" бытию. И здесь дело идет о неком творческом, внутренне преобразующем излиянии или самопревращении "почвы" в "корень". Реальность в ее абсолютности, как вечное и всеобъемлющее единство, из которого впервые возникает или проистекает "мировое бытие", стоит как бы посредине между "эманацией" и "творением" Божества. Она есть Божественное в мировом бытии и одновременно вечно исконное начало мирового бытия в самом Божестве, - или же, как уже сказано, безусловно неизреченное "ни то, ни другое". В этом состоит таинственное, безусловно непостижимое и вместе с тем явственное в своей непостижимости существо "перехода" от Бога к миру, каким бы именем мы его ни называли; этот переход Бога в "иное, чем Бог" совершается через некое "уплотнение", через рождение "осязаемо-зримого", фактического, "мирового" бытия из лона сверхвременно-идеальной, "прозрачно"-духовной реальности. Это есть как бы облечение незримого Бога в некую "плоть", которая есть в отношении его нечто вроде "одеяния", внешнего обличия и покрывала, созидаемого, как все вообще, внутренней силой или потенцией самого Бога, но именно в качестве "иного", чем он сам. Мир не есть ни сам Бог, ни нечто логически "иное", чем Бог, и в этом смысле ему "чуждое" - мир есть "одеяние" Бога, "иное самого Бога" или, как говорит Николай Кузанский, explicatio Deicxliii. Мир есть то "иное Бога", в котором "раскрывается", "выражается" Бог. Здесь есть глубочайшая (хотя, конечно, тоже лишь "трансрациональная" ) аналогия с отношением между духом и телесным обликом, в котором он "выражается", - т.е. с самим актом или соотношением "выражения" (во всей его первичности, ср. гл. VI, 1), с явлением, "откровением" "выражаемого" в инородном ему "внешнем", "выражающем". Правда, здесь остается и то различие, что "нутро", незримая глубина или сердцевина, "выражаясь" вовне, в мире, здесь сама "творит" средство своего выражения - "оболочку", в которой оно выражается.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: