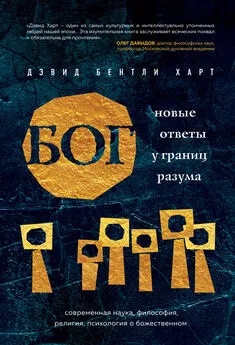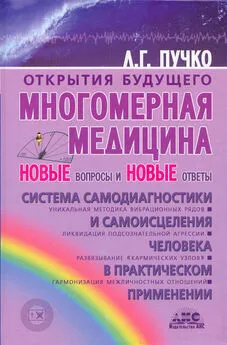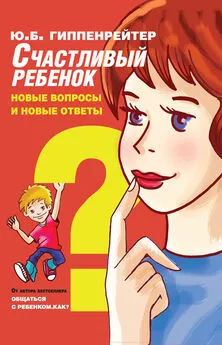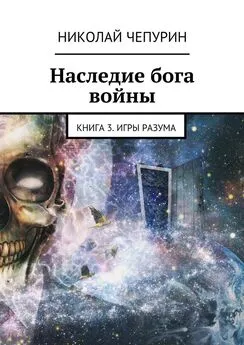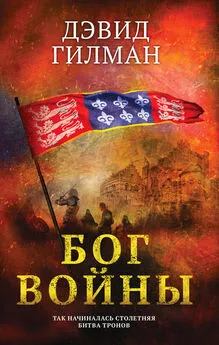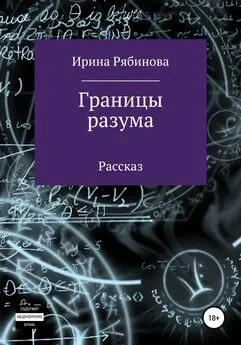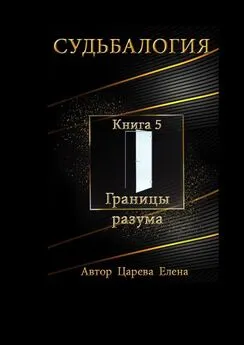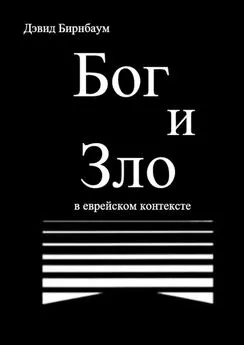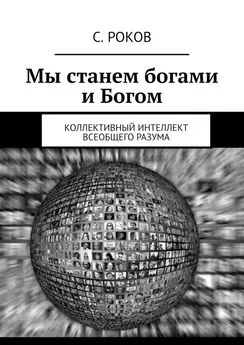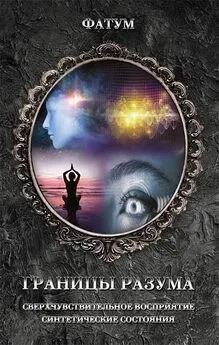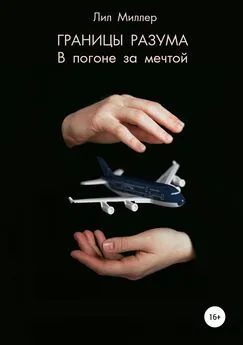Дэвид Харт - Бог. Новые ответы у границ разума
- Название:Бог. Новые ответы у границ разума
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент 5 редакция
- Год:2019
- Город:Москва
- ISBN:978-5-04-099880-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Дэвид Харт - Бог. Новые ответы у границ разума краткое содержание
Бог. Новые ответы у границ разума - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В любом случае, независимо от того, как мы описываем исторические силы, которые дали нам нашу позднемодерновую картину мира, мы пришли к культурной ситуации, странным образом удаленной от непосредственного чувства таинственного избытка бытия в сравнении с сущим, – того чуда неискоренимой разницы между фактом наличия (that it is) мира и его сущностью (what it is), разницы, которая раскрывает разум навстречу истинному вопросу о трансцендентном Боге. Ум, не наученный благоговению, говорит Бонавентура (1221–1274), подвергается угрозе настолько плениться зрелищем сущего, чтобы полностью забыть о бытии; и наш механистический подход к миру – не что иное, как онтологическое забвение, воплощенное в живую традицию. Мы потратили столетия, кропотливо учась не видеть простейших и самых непосредственных истин о реальности, которые каждый ребенок постигает, не владея понятиями, необходимыми для того, чтобы назвать ее. Возможно, мы сможем правильно рассуждать о Боге (в отличие от рассуждений о демиургическом Боге современных веры и неверия) только в той степени, в какой мы освободимся от этого наследия. И лучший способ избежать комфортного знакомства с унаследованной картиной реальности – попытаться вернуться к чему-то более изначальному, более непосредственному: отойти от своих привычных интерпретаций своего опыта мира и вернуться к самим этим переживаниям, как можно более свободным от предубеждений и предрассудков. По общему признанию, нет такой вещи, как чистая непосредственность опыта, полностью лишенная какого-либо акта интерпретации; но мы, безусловно, можем попытаться освободить свое мышление от всех тех наслоений культурной и личной истории, которые, за исключением нескольких ускользающих моментов, мешают нам вспомнить мир, то есть вспомнить то, что является самым странным и потому самым просветляющим в нашем изначальном бодрствовании перед тайной бытия. Бог, согласно всем великим духовным традициям, не может быть постигнут конечным разумом, но, тем не менее, Он может быть постигнут в интимной встрече с Его присутствием – тем, которое требует значительной дисциплины ума и воли для достижения, но и подразумевается во всяком повседневном опыте (если только мы достаточно внимательны, чтобы это заметить).
Многие из нас сегодня, конечно, склонны с подозрением или пренебрежением воспринимать апелляцию к личному опыту. Это тоже часть интеллектуального наследия эпохи модерна. Да и не такое уж и неудачное это состояние: какая-то степень хитрого скептицизма в отношении утверждений, сделанных на основе личных чувств или невыразимых интуиций, или эпизодических прозрений, – вещь здравая. Но наша идеологическая традиция выводит нас далеко за рамки здравого рассудка в таких вопросах и делает нас склонными к довольно экстремальной форме «верификационистского» заблуждения, к изысканно противоречивой убежденности в том, что никакой вере нельзя доверять, пока она не будет доказана научными методами. Сегодня есть, казалось бы, разумные люди, которые утверждают, что наша вера в реальность нашего собственного интенционального сознания должна быть подтверждена методами, соответствующими механическим процессам, бессознательным объектам и описаниям «от третьего лица». Это превращается в совершенный абсурд, когда считают, будто наша вера в силу научного метода сама по себе основана на нашем субъективном чувстве непрерывности сознательного опыта и на нашем субъективном суждении о том, правильно ли мы мыслим. Даже решение искать объективного подтверждения своих убеждений есть субъективный выбор, возникающий из-за личных опасений. На каком-то базовом уровне наше знание «третьего лица» всегда зависит от понимания «первого лица». Кроме того, в более широком смысле, большинство вещей, о которых мы действительно знаем, что они истинны, не доступны никаким эмпирическим доказательствам, но могут быть только свидетелями, говорящими исключительно от первого лица. Мы знаем события, личности и чувства лучше и многограннее, чем мы знаем физические принципы или законы; наше понимание мира состоит из воспоминаний, непосредственных встреч, накопленного опыта, феноменальных качеств вещей, меняющихся настроений, постоянно формирующихся и реформирующихся в течение всей жизни интерпретаций, наших собственных вкусов и отвращений, чувства идентичности, которым каждый из нас в отдельности обладает, и бесчисленных других форм сущностно личного знания. Конечно, частное сознание можно обмануть, запутать, умалить или вывести из строя; если мы мудры, мы подчиняем свои суждения суждениям других, предлагаем свое свидетельство, ожидая, что нам будут бросать вызов те, кто может рассказать совершенно разные истории, учимся отличать мнение от проницательности и импульс – от рефлексии, полагаемся на мудрость других, развиваем способность сомневаться и так далее. Тем не менее в каждом из нас остается незыблемая решительная субъективная определенность, которая составляет необходимую основу любых наших рациональных убеждений. Мир, который является сознанию, – это единственный мир, где у нас есть что-то типа непосредственной уверенности. Если так, то было бы безумием отказываться от уверенности, например, в нашем понимании своей собственной свободной воли или в конфиденциальности нашего качественного опыта, или в единстве сознания, или даже в трансцендентной реальности добра или красоты и т. д., лишь потому, что какая-то материалистическая ортодоксия или какая-то псевдонаучная теория побуждает нас так поступать. Мы не обречены на абсолютную субъективность, но наш непосредственный опыт реальности должен быть для нас абсолютным авторитетом, который, возможно, должен оцениваться с точки зрения дальнейшего опыта, но никогда не может быть полностью заменен.
Я думаю, если честно, что здесь нужно придерживаться очень радикальной линии. Я не говорю о том экстраординарном опыте, который мог бы бросить вызов ожиданиям большинства людей по поводу того, что возможно или невозможно; но я и не хотел бы исключать такой опыт из сферы рациональных убеждений. Возможно, было бы разумно скептически относиться к рассказам о чудесных событиях, например, но не на тех пустых догматических основаниях, что такие вещи просто не могут произойти. Согласно знаменитому аргументу Дэвида Юма в пользу отвержения всяких рассказов о чудесном, чудеса – это, по определению, нарушение законов природы, о которых свидетельствует опыт всех людей во все времена без исключения; следовательно, такие свидетельства противостоят любым заявлениям о том, что эти законы были нарушены в какой-то конкретный момент, а логика подсказывает, что все подобные заявления следует рассматривать как продукты невежества, легковерия, благочестивого обмана или выдачи желаемого за действительное. На самом деле, это во многих отношениях довольно слабый и «круговой» аргумент, и сводится он лишь к утверждению, что то, что является исключительным, невероятно, потому что это неординарно, и что в чудеса нельзя верить якобы потому, что это – чудеса. И все же Юм прав в том совершенно очевидном и бесспорном пункте, что сообщения о чудесах в целом неправдоподобны и обычно не должны приниматься некритически. Тем не менее, если бы кто-то услышал такое сообщение из уст свидетеля, с которым у него было долгое личное знакомство и чья честность, интеллигентность, скрупулезность, прозорливость и, возможно, святость считаются неоспоримыми, то было бы совершенно неразумно отклонить это сообщение лишь потому, что нам кажется, будто мы знаем, что обсуждаемое событие по существу невозможно. Мы не можем наблюдать закон естества, а тем более закон, который мог бы управлять взаимоотношениями между естественным и сверхъестественным; мы можем наблюдать только закономерности и их нарушения, обычное и необычное; и в число критериев, по которым можно было бы судить, во что верить или не верить, можно было бы включить наше восприятие закономерных и обычных черт той личности, которая утверждает, что наблюдала незакономерное и необычное событие. Опять же нужно полагаться на собственный опыт, потому что в этих (да и в любых) вопросах не бывает чисто объективного и надежного арбитра. И это еще более верно, возможно, почти в абсолютной степени, в тех случаях, когда нам не просто бросают вызов, чтобы мы поверили чьему-то сообщению о, казалось бы, невозможном событии, но когда сталкиваются с собственным опытом такого события. Если мы считаем, что в одном или двух случаях, в обстоятельствах, делающих обман или заблуждение более или менее невозможными, мы стали свидетелями события, которое не могут объяснить «законы» природы (а я полагаю, что должен здесь скрыться под завесой авторской конфиденциальности и промолчать о том, оказывался ли когда-нибудь в такой ситуации я сам), то не было бы причины, которая заставила бы нас отказаться поверить собственному опыту и выбрать вместо этого веру в догматы натуралистической метафизики. Логика потребовала бы веры в чудо, по крайней мере временно; только слепая вера в неосязаемые и недоказуемые абстракции материализма потребовала бы неверия.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: