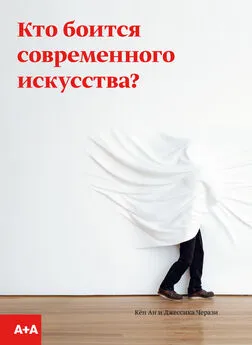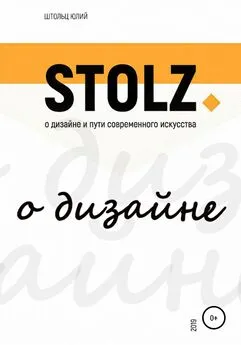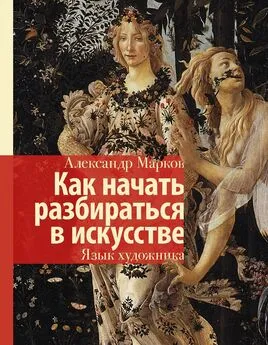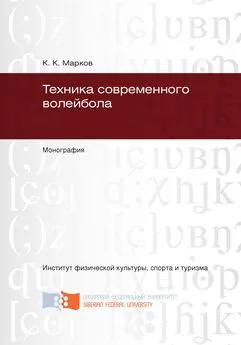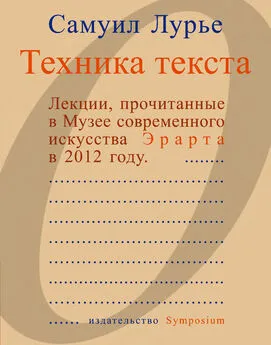Александр Марков - Теории современного искусства
- Название:Теории современного искусства
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Марков - Теории современного искусства краткое содержание
Теории современного искусства - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Но как не превратить восприятие искусства в клуб эстетов? Харман считает, что прежде всего надо признать в искусстве некоторую «пустоту», вакуум, иначе говоря, степень свободы элементов системы — например, музыку мы можем слышать как каждую ноту, а можем слушать настроение, и это тоже будет восприятием музыки. Далее, произведение искусства может быть уподоблено биологической клетке: как клетка имеет строение, но все особенности строения направлены на воспроизводство и удержание живого, так и произведение искусства несет в себе в том числе эстетические зацепки, цепляющие наши переживания, но и эти зацепки направлены на то, чтобы произведение искусства продолжало жить. Односторонний эстетизм — просто один из примитивных видов искусства: искусство любования собой с малой степенью свободы.
Харман критикует и критическую теорию, прежде всего, Хэла Фостера, за то, что он считает политически продуктивным разрушение формы, антиформализм, при котором произведение своей отвратительностью и разрушением напоминает о насущных социальных проблемах. Харман говорит, что мы до конца не можем вычесть из вещи ее внутреннее устройство, и, например, паутина или плевок как произведение искусства остаются паутиной и плевком больше, чем формой социального протеста. Чтобы превратить их в социальный протест, необхо дима особая обработка контекста, а именно, принятие того, что контекст «спасаем» искусством, причем искус- ство достаточно неразнообразно для того, чтобы стать прямым действием по спасению этого контекста. Но оба эти принятия неочевидны и опровергаются самим бытованием искусства.
В частности, ссылаясь на Маршалла Мак-Люэна и Гарольда Блума (оба они среди американских академических левых считаются консервативными мыслителями), Харман пишет, что большая часть современного искусства — холодные медиа, не способные производить искомого Фостером прямого действия. Китайский рисунок или византийская икона были горячими медиа, они производили избыточную информацию, тогда как перспективист- ская живопись или кино — холодные медиа, они производят недостаточную информацию, например, показывают вещь только с одного ракурса, так что зритель должен достраивать недостающее, как бы гипнотизируясь и вовлекаясь. Конечно, видеоарт менее «холоден», потому что требует рассмотрения с разных точек, но это не значит, что он может быть искусством прямого действия, каким было архаичное искусство, и каким Фостер хочет видеть современное искусство. Поэтому, говорит Харман, либо мы вслед за Гринбергом признаем современное искусство наследующим радикальному авангарду, но тогда мы не должны сводить его «клеточность» к политическим задачам, превращая форму в знак мнимой достаточности, либо мы считаем, что современное искусство является самым горячим, но тогда непонятно, что делать с его способами бытования, вроде инсталляций и видеоинсталляций, которые, конечно, горячее, чем живопись или кино, но все равно достаточно холодны.
Следует заметить, что Ричард Рорти в своем последнем эссе «Огонь жизни», его завещании, которое есть на русском языке, тоже ссылается на Г. Блума и его термин «сильные поэты» — поэты, создающие новые просодии и новые языковые игры: ну например, мы назовем сильным поэтом Пушкина, потому что он изменил фонетику, после гладкой фонетики Батюшкова стали возможны шипящие, рычащие и скрипучие звуки даже в самых галантных стихах: «Лишь розы увядают / Амброзией дыша…», но изменил и понимание любви — любовь это уже не страсть, а способ мыслить, такой же способ мыслить, как размышление о смерти, о чем и процитированное стихотворение про розы. Дело не в том, что мысль о любви сильнее мысли о смерти, а что мыслить настоящую любовь, а не просто увлечение, можно только при серьезном отношении к мысли и своему поэтическому делу. По меткому замечанию О. Седаковой, об этом и слова Тютчева из стихотворения памяти Пушкина: «Тебя ж, как первую любовь / России сердце не забудет» — речь не о том, что Россия полюбила Пушкина, а о том, что его поэтическое слово было пережито так же глубоко, как переживается первая любовь, во всей русской культуре и русской литературе случилось что-то значительное, вдохновенное и неотменимое. А например, Некрасова нельзя назвать сильным поэтом — он разрабатывает готовые темы, берет готовые интонации, из фольклора или разговорной речи, и поэтому хотя как мастер он сопоставим с Пушкиным, он относится к слабым поэтам — это не вопрос о качестве, а такое же различение, как «сильная» и «слабая» программы в социальных науках, о которых мы говорим с первой нашей встречи. И вот Рорти считает, что сильная поэзия обладает кумулятивным потенциалом, способностью накапливать заряд, а не тратить его на ассоциации с отдельными предметами и практиками, и это напоминает сразу акселерационизм Ника Ланда, о котором мы поговорим, или «горячее» искусствоведение Хармана.
«Трансцендентальный нигилизм» Рэя Брассье исходит из того, что рано или поздно мир может развалиться, а бытие перестанет существовать, поэтому философия не должна коррелировать сознание с бытием, а должна показывать, что исчезновение вещей может быть осознано в не меньшей степени, чем существование. Эти идеи также оказываются близки некоторым направлениям в современном искусстве: еще в концептуальном искусстве материальные объекты превращаются в идеи, а в постконцептуализме возможен обратный процесс и встречно эти два процесса. На русском можно прочесть, например, критику со стороны Брассье известной книги Т. Адорно и М. Хоркхаймера «Диалектика Просвещения», опубликованную в «темном» спецвыпуске журнала «Логос». Адорно и Хоркхаймер обвиняли Просвещение в том, что оно, «расколдовав» природу и поставив буржуазного авантюриста в центр режима событийности, косвенно способствовало возникновению тоталитаризма как такой ничем не сдерживаемой политической авантюры, которой невозможно сопротивляться, потому что природные ценности, ценности естественной жизни как бы уже разоблачены. Брассье на это замечает, что такой подход реакционен, мы возвращаемся к упрощенной телеологии Аристотеля, отождествлявшего природное и целесообразное, но если у Аристотеля это отождествление держалось на его собственных аристократических ценностях, то у Адорно и Хоркхаймера — только на неприятии современности и вере во власть готовых образов, которую нужно восстановить. Позиция этих мыслителей, говорит Брассье, основана на смешении «опыта природы» и «опыта как природы», иначе говоря, на понимании опыта как изготавливающего образы и образцы, вопреки общему движению науки, расстающейся с готовыми образами, готовыми формулами ради особого, очень специализированного моделирования.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
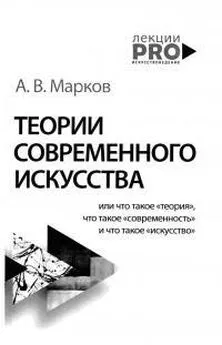

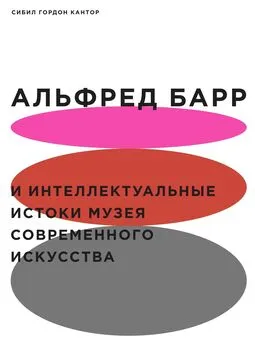
![Александр Марков - Постмодерн культуры и культура постмодерна [Лекции по теории культуры] [litres]](/books/1076529/aleksandr-markov-postmodern-kultury-i-kultura-po.webp)