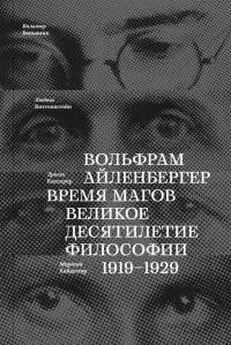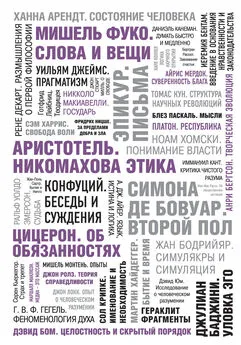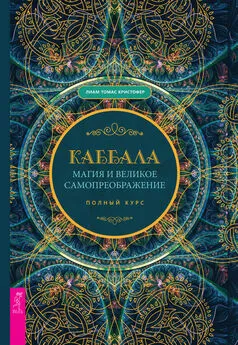Вольфрам Айленбергер - Время магов. Великое десятилетие философии. 1919-1929
- Название:Время магов. Великое десятилетие философии. 1919-1929
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Ад Маргинем Пресс
- Год:2021
- Город:978-5-91103-588-4
- ISBN:978-5-91103-588-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Вольфрам Айленбергер - Время магов. Великое десятилетие философии. 1919-1929 краткое содержание
В формате PDF A4 сохранен издательский макет.
Время магов. Великое десятилетие философии. 1919-1929 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
И этот путь в другой мир она указывает в точности тем же средством, какое без деятельности философии, проясняющей мысли, постоянно грозит этот путь завалить, заслонить, исказить, прямо-таки заблокировать, – средством самого языка.
Поэтическая точность
Столь невероятно трудным для понимания первых читателей (фактически, на десятилетия вперед) делало логический трактат Витгенштейна решение автора достичь окончательного разъяснения своих мыслей двумя способами использования языка, которые, собственно говоря, кажутся взаимоисключающими. Во-первых, языком математической логики, основанным на абсолютной однозначности и недвусмысленности, и ее полностью абстрактных символов. Во-вторых, образным, поэтическим языком метафоры, аллегории и парадоксального афоризма. Это стилистическое упрямство объясняется, опять-таки, уникальным устройством того точного инструмента, каким был философский ум Витгенштейна. Ведь, с одной стороны, он как автор – благодаря изучению инженерной науки в Берлине и Манчестере и, что еще важнее, благодаря учебе в Кембридже у Рассела, – хорошо вышколен в построении логических исчислений и абстрактных взаимосвязей символов. В той же мере, однако, его дух – это сквозит в воспоминаниях Гермины – явно отточен привычкой, преобладающей в семье Витгенштейн, где было принято изъясняться «сравнениями», то есть поэтическими средствами метафоры, языкового образа и аллегории.
Этот второй способ есть нечто большее, чем чисто фамильная особенность Витгенштейнов. Если в Европе перед Первой мировой войной была культурная среда, где радение о логико-аналитической точности и радение о поэтической символизации в использовании языка понимались как два пусть разных, но взаимосвязанных проявления одного и того же жизненно-эстетического стремления к ясности, то это венский модерн рубежа веков [63] См. в особенности: Janik, A., Toulmin. S. (1984).
. Речь шла о культуре, чье основное само собой разумеющееся допущение заключалось в том, что существует внутренняя связь между степенью ясности использования своего языка и состоянием собственного «я» и собственной культуры. Это и есть негласная скрепа, соединяющая такие разные культурные явления, как музыка Малера, литературные сочинения Гуго фон Гофмансталя, Роберта Музиля и Карла Крауса, философию Эрнста Маха и Фрица Маутнера и, не в последнюю очередь, психоанализ Зигмунда Фрейда. Что неслучайно в эпоху, когда пропасть между тем, что проникает на свет из политического нутра императорско-королевской монархии, и тем, что реально происходит во внешнем пространстве повседневной жизни многонациональной империи, оборачивается настоящей бездной абсурда. Дворец Витгенштейнов, где Людвиг провел первые четырнадцать лет своей жизни и где его обучали частные учителя, являет собой – со своими регулярными вечерами, визитами художников и заседаниями благотворительных фондов – один из центров этой культурной среды. Молодой Витгенштейн словно впитывает ее с молоком матери.
Против мира
Наряду с «Трактатом» Витгенштейна едкие афоризмы писателя и журналиста Карла Крауса по сей день дают нам яркие нетленные примеры духовных особенностей этой среды. Уже тогда, например, Карл Краус, бесспорный король венского модерна, сетовал, что фрейдовский психоанализ «и есть тот самый недуг, от которого он берется нас излечить». В такой парадоксальной манере Краус выражает свое скептическое отношение к новому терапевтическому методу, основанному на стремлении средствами языка обеспечить ясность и самопонимание там, где прежде царили искажающие жизнь смятение и безысходность (то есть – в душевной жизни пациента). Но одновременно скепсис Крауса метит, конечно, в сомнительную сверхценность языка для человека как познающего существа вообще: не является ли сам язык – так гласит венский вопрос – недугом, который дóлжно излечить? Или он, скорее, и есть единственная мыслимая терапия? Искажает ли он путь к истинному познанию мира и самого себя? Или, наоборот, делает возможным и то и другое?
Когда Витгенштейн в 1918 году пишет в своем предисловии к «Трактату», что «истинность размышлений, изложенных на этих страницах, представляется» ему «неоспоримой и полной» , а посему он полагает, что отыскал, «в существенных отношениях, окончательное решение поставленных проблем» , то он имеет в виду отнюдь не только – и даже не в первую очередь – оставленные нерешенными Расселом и Фреге проблемы построения непротиворечивого логического исчисления. Речь здесь идет и о центральных мотивах языковых сомнений художественных протагонистов венского культурного мира. По итогам мировой войны этот венский мир погиб так же бесповоротно, как и империя, чьим духовным центром он был. То, что еще оставалось от него в 1919-м, встречает Витгенштейнов «Трактат» не только с полным непониманием, но – хуже того – с совершенным равнодушием.
Список издательских отказов, полученных вернувшимся с войны автором «Трактата» к концу осени 1919 года, читается как «Who is Who» тогдашнего венского авангарда: сначала он обратился к Эрнсту Яходе, издателю Карла Крауса, затем к Вильгельму Браумюллеру, который некогда выпустил безмерно высоко ценимую Витгенштейном работу Отто Вейнингера «Пол и характер». И, в конце концов, пытается заинтересовать Людвига фон Фиккера, издателя авангардистского журнала «Дер Бреннер», который Витгенштейн до войны поддерживал финансовыми субсидиями, а также поэта Райнера Марию Рильке. Фиккер, при поддержке Рильке, в итоге передал запрос в издательство «Инзель» – снова без положительного результата.
Единственное предложение о публикации, полученное Витгенштейном в эти месяцы, сопряжено с условием, что расходы на печать и распространение книги автор возьмет на себя, – однако он категорически отказывается. Во-первых, у него теперь нет ни шиллинга. А во-вторых – и это важнее, – он считает «граждански неприличным таким образом навязывать миру свое произведение», о чем и пишет в октябре 1919 года Людвигу фон Фиккеру: «Написание было моим делом; но мир должен принять это нормальным образом». Только вот мир этого не желает, по крайней мере – в Вене. Да и в других местах пока что возможности не представилось. Неудивительно, что в душе Витгенштейна бушуют осенние бури отчаяния, меж тем как в педагогическом институте на Кундмангассе он день за днем сидит за партой бок о бок с людьми минимум на десять лет моложе, и с ними его, по сути дела, мало что в жизни объединяет.
К осени 1919 года примыкают также эпизоды, по сей день наиболее спорные в его биографии. Ведь совершенно очевидно, что существуют (или существовали) дневниковые записи этого периода, намекающие, что в парке, на лужайках Пратера, где обычно происходили свидания гомосексуалистов, Витгенштейн искал и находил подобные случайные контакты [64] См.: Bartley, W. W. (1983). S. 24f.
. Надежность этих сведений – хотя один из биографов заглядывал непосредственно в означенные дневниковые записи, по-прежнему недоступные публике либо утраченные, – оспаривается. Неоспоримы, однако, гомосексуальные наклонности Витгенштейна, о которых его душеприказчики десятилетиями намеренно умалчивали. К тому же, из позднейших дневниковых записей отчетливо видно, что на протяжении всей своей жизни Витгенштейн очень тяжело воспринимал собственную сексуальность, считая эту сферу испорченной и грязной. В его собственных глазах это особенно явно касалось эпизодов, подобных тем, что происходили на лужайках Пратера. В известной степени эти предположительные свидания в парке психологически вписываются в настрой, толкающий Витгенштейна осенью 1919 года к новой фазе саморазрушения.
Интервал:
Закладка:
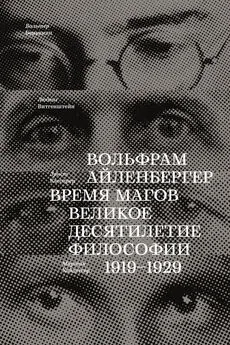
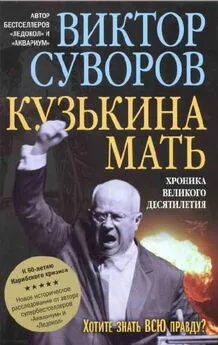
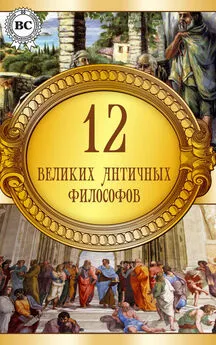
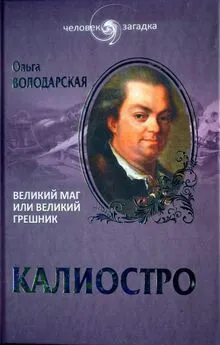
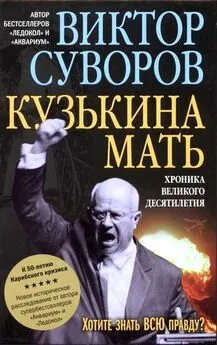
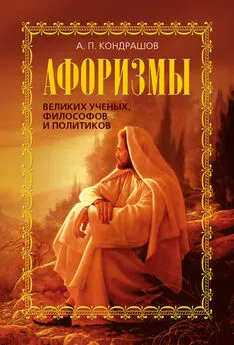
![Сергей Лукьяненко - Время для мага. Лучшая фантастика 2020 [сборник litres]](/books/1075025/sergej-lukyanenko-vremya-dlya-maga-luchshaya-fantastik.webp)