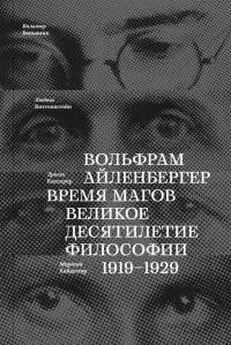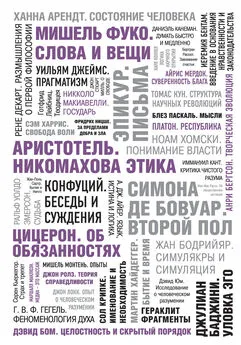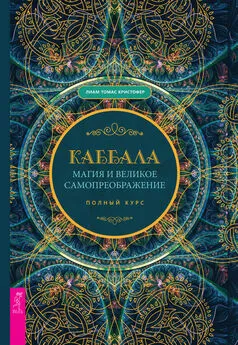Вольфрам Айленбергер - Время магов. Великое десятилетие философии. 1919-1929
- Название:Время магов. Великое десятилетие философии. 1919-1929
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Ад Маргинем Пресс
- Год:2021
- Город:978-5-91103-588-4
- ISBN:978-5-91103-588-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Вольфрам Айленбергер - Время магов. Великое десятилетие философии. 1919-1929 краткое содержание
В формате PDF A4 сохранен издательский макет.
Время магов. Великое десятилетие философии. 1919-1929 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
6. 54. Мои суждения уточняются следующим образом: тот, кто понимает меня, в конце концов признает их бессмысленными, когда проберется сквозь них, по ним, над ними. (Он должен, так сказать, отбросить лестницу после того, как взобрался по ней.)
Он должен преодолеть эти суждения, чтобы правильно увидеть мир.
7. То, о чем нельзя сказать, следует обойти молчанием.
Понимаешь, дорогой Бертран, понимаешь? Моя книга, правильно понятая, не высказывает совершенно ничего наделенного смыслом, но она кое-что показывает . Как произведение она есть одно-единственное указующее действие, причем показывающее «другой мир», то есть другое видение мира – более ясное, более честное, менее искаженное, а равно удивляющееся, более скромное, безоснóвное, более осмысленное. Но прежде всего – более свободное, ибо в этом новом мире уже нет необходимости размышлять, прибегая к аргументам, об определенных вопросах, в особенности о философских вопросах, – ведь они признаны бессмысленными, и в этом качестве даже познаны на опыте . К примеру, это мир без утверждений о том, каков он есть «на самом деле». Если угодно, это мир без идеологий и идеологических подозрений.
Именно это более свободное ви́дение мира моя книга предлагает читателю. Ну, примерно, дорогой Бертран, как если бы я сейчас указал пальцем вон на то облако в небе и спросил тебя, видишь ли и ты в его форме льва, а теперь, смотри, оно больше похоже на дракона. Вон там пасть, а сзади хвост… видишь, видишь? Вон там – крылья, глаза, которые как раз закрываются от ветра… Но когда-нибудь, конечно, достигается точка, когда все объяснения и указания должны закончиться, когда ты попросту сам должен увидеть его и понять, когда оно просто должно показаться тебе самому… Точно в этом смысле я и написал в предисловии, что эта работа откроется лишь тому, «кто уже самостоятельно приходил к мыслям, в ней изложенным, – или, по меньшей мере, предавался размышлениям подобного рода» .
Тщетно. Рассел просто не видел. Не понимал. Видел иначе, принципиально иначе, нежели Витгенштейн. С полным основанием, как ему казалось, он остановился уже на одной из первых ступенек Витгенштейновой лестницы и никак не желал двинуться дальше. «Витгенштейн стал совершеннейшим мистиком» [67] Ср.: Monk, R. (1991). S. 182. См.: Монк Р. Людвиг Витгенштейн. Долг гения. С. 196.
, – подытоживает Рассел в одном из писем гаагские споры. В этом не было ошибки. Наоборот, он затронул нечто важное. Точно так же и Витгенштейн, вернувшись на Рождество 1919 года в Вену, испытывал ощущение, что хотя бы некоторые содержательные аспекты трактата сумел Расселу разъяснить. Но главное – Рассел, философ с мировым авторитетом, чьи книги прекрасно продаются повсюду, изъявил готовность написать короткое введение к работе своего давнего ученика. Хотя Витгенштейну и не удалось разъяснить другу центральное философско-языковое значение различения между «сказать» и «показать», он снова воспрянул духом. С предисловием Рассела шансы на продажу, а тем самым на публикацию его работы резко возрастают, о чем он и поспешил написать издателю Фиккеру. Правда, без желаемого успеха. Тот по-прежнему считал книгу абсолютно непродаваемой.
Почему мира не существует
Возможно, всё дело в том, что издатель сомневался, что кому-то еще, кроме горстки логиков и специалистов по теории множеств, будет интересен вопрос, наделены ли смыслом суждения о мире как таковом. В конце концов, не всё ли равно, ведь это просто тщеславный спор о словах? В соотнесенности с нашей конкретной повседневностью это предположение действительно может показаться убедительным. Однако, по крайней мере для самопонимания современной философии – и ее многочисленных проблем, считающихся центральными, – от этого вопроса зависит очень многое, в известном смысле даже всё. Достаточно вспомнить Декарта и его пронизавший всю философию Нового времени скептицизм относительно действительного существования этого мира в том виде, в каком мы его ежедневно переживаем и описываем, – или, может статься, это обман, созданный всемогущим демоном: существует ли мир вообще?
Звучит серьезно. Абсолютно экзистенциально. Однако трактат Витгенштейна разоблачает это основополагающее эпистемологическое сомнение как сугубо мнимый вопрос – поставленная проблема есть на самом деле классический пример бессмыслицы, – а потому ясно мыслящему человеку лучше к ней вообще не прикасаться. Ибо:
6.5. Когда ответ нельзя облечь в слова, вопрос тоже нельзя задать словами.
Тайны не существует.
Если вопрос может быть сформулирован, на него возможен ответ.
6.51. Скептицизм не неопровержим, но явно бессмыслен, когда пытается возбудить сомнения там, где невозможно задать вопрос.
Сомнение существует лишь там, где возможны вопросы, вопросы – лишь там, где возможны ответы, а ответы – лишь там, где нечто может быть сказано .
Итак, проблема исчерпана Витгенштейном. Не решена и не опровергнута. Нет, она исчерпана в том смысле, что отложена в сторону, поскольку признана ложной уже в самой постановке. Или вспомним другой, по времени куда более близкий, пример – Мартина Хайдеггера, когда зимой 1919 года он обжигает уши студенческой аудитории безусловнейшим из всех вопросов. И вопрос этот не о том, есть ли что-то (например, три кляксы на листке бумаги), а о том, есть ли «что-то вообще» . Пожалуй, еще одна формулировка, звучащая поначалу осмысленно, но, в конечном счете, таковой не оказывающаяся. Что отнюдь не означает, будто Витгенштейн был совершенно глух к меняющей мир мощи, таящейся за хайдеггеровским вопрошающим импульсом. Напротив, разве он сам не написал в своем трактате:
6. 522. Есть в самом деле нечто, чего не передать словами. Оно проявляет себя. Вот что мистично.
6.44. Мистическое заключено не в том, как явлен мир, а в том, что он есть.
Как и Хайдеггер, Витгенштейн не перестает испытывать изначальное удивление, что нечто вообще есть. А в особенности – что это «нечто» показывает себя нам как непосредственно наделенное смыслом, даже истинное, достаточно лишь открыть глаза. Только вот Витгенштейн, не в пример Хайдеггеру, как раз не считал, что в полностью неискаженном вопросе о простой данности «чего-то вообще», а тем более этого мира, сокрыта философская тайна, чей подлинный смысл необходимо вновь заставить заговорить. По его убеждению, каждая попытка в этом направлении рано или поздно закончится языковой бессмыслицей, если не чем-нибудь похуже.
Под потоком
В те же сентябрьские дни 1919 года, когда в Людвиге Витгенштейне бушуют бури бессмыслицы, и он чувствует себя как бы отрезанным от других людей «закрытым окном», Мартин Хайдеггер переживает истинный взрыв творческих сил: «История, горизонты проблем, настоящие шаги плодотворных решений, принципиально новые способы ви́дения, возможности самых неожиданных формулировок и выражений, стремительное соединение подлинных комбинаций – всё это бьет ключом, просто бьет ключом, так что и физически, и по времени практически невозможно объять этот поток, удержать его, систематически исчерпать» [68] Heidegger, G. (2005). S. 98.
, – пишет он жене во Фрайбург 9 сентября 1919 года из крестьянской усадьбы под Констанцем, куда на несколько недель уехал писать. Тем не менее, шварцвальдскому философу докучают тяжкие личные заботы. Его браку угрожает кризис. Всего несколько дней назад Эльфрида в письме призналась ему, что у нее роман с бывшим одноклассником. Зовут его Фридель Цезер. Он работает врачом в университетской клинике Фрайбурга. Отвечая в письме на это признание, Хайдеггер поначалу весьма горд и миролюбив. Далее он сразу же толкует обстоятельства как жизненно-философскую проблему, которую суждено разрешить ему и только ему:
Интервал:
Закладка:
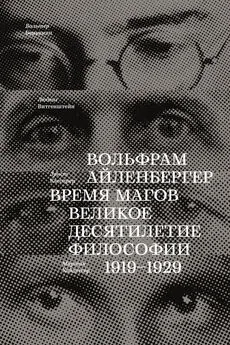
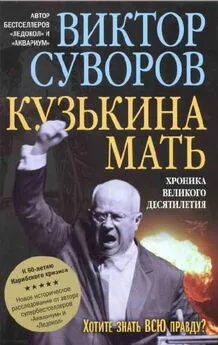
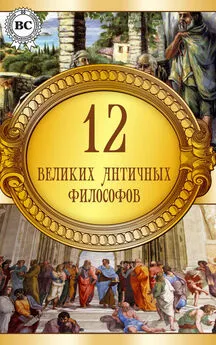
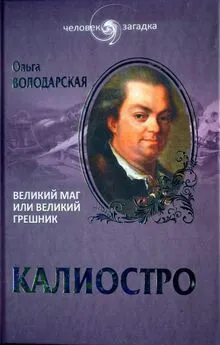
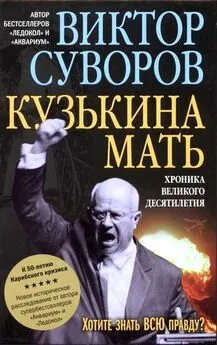
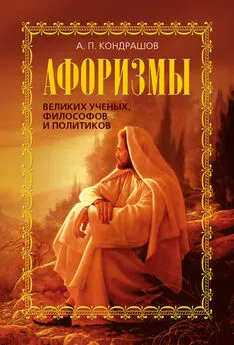
![Сергей Лукьяненко - Время для мага. Лучшая фантастика 2020 [сборник litres]](/books/1075025/sergej-lukyanenko-vremya-dlya-maga-luchshaya-fantastik.webp)