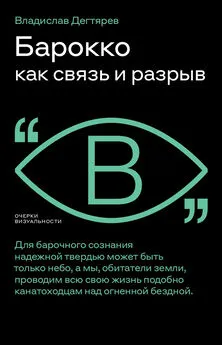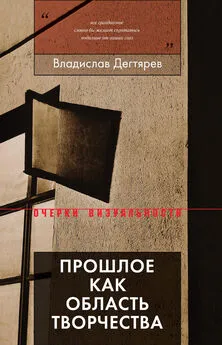Владислав Дегтярев - Барокко как связь и разрыв [litres]
- Название:Барокко как связь и разрыв [litres]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент НЛО
- Год:2021
- Город:Москва
- ISBN:9785444814918
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владислав Дегтярев - Барокко как связь и разрыв [litres] краткое содержание
Барокко как связь и разрыв [litres] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Этот детский опыт, говорит Анкерсмит,
уничтожил барьеры, отделяющие меня от конца XVIII столетия, когда была создана картина, и вызвал во мне парадоксальное чувство узнавания того, что мне было каким-то образом всегда известно, но оказалось позабыто, и породил ощущение столкновения с чем-то для меня странным и чуждым 114 114 Там же. С. 382.
.
Таков ключ, предлагаемый Анкерсмитом для проникновения в истинную сущность прошлого. По его собственным утверждениям, он работает безупречно, позволяя проникнуть в
настроение времени – невозможный объект исторического исследования, если придерживаться позитивистского или конструктивистского исторического дискурса, когда всё, что можно сказать о прошлом, есть результат дедукции из того, что дано с очевидностью. <���…> Но настроение времени мы можем только слышать, но не видеть, хотя оно не менее реально для нас. Мы можем его слышать, поскольку его воздействие на нас является гораздо более непосредственным, чем воздействие того, что мы способны увидеть в прошлом: видимое от нас удалено, меж тем как слышимые нами звуки раздаются в самих ушах 115 115 Там же. С. 379.
.
Однако сама технология вчувствования в высшей степени консервативна, поскольку предполагает обращение к опыту, принципиально внеиндивидуальному и лежащему вне сферы языка, т. е. глубоко архаическому. Воссоздание истории оборачивается ее устранением.
Тем более – кто сказал, что такие воспоминания и такие желтые отблески нельзя придумать задним числом?
Вкус пирожного «мадлен» способен вспомнить только тот, кому этот вкус знаком. В случае же с анкерсмитовским прошлым получается так, что мы пытаемся рассуждать о пирожном, которого не пробовали.
И наконец, не может ли ощущение подлинного прошлого вызвать подделка, стилизация, художественный образ?
Попытки восстановить прошлую или чуждую реальность по артефактам появились одновременно с воспоминаниями о прошлом. Как писал Роман Ингарден,
мы комментируем лишь произведения посредством произведений, а не произведения посредством минувшей действительности. Отсюда возможность познания содержания самих ныне нам непосредственно доступных произведений является условием возможности познания минувшей эпохи, а не наоборот, как это часто считают историки искусства 116 116 Ингарден Р. Музыкальное произведение и вопрос его идентичности // Ингарден Р. Исследования по эстетике. М., 1962. С. 463.
.
Естественно, что чувство переживания прошлого, причем подлинного прошлого, больше говорит о нас самих, чем о достоверности исторических свидетельств. Пруст писал о средневековых постройках, отреставрированных (а точнее – перестроенных в неоготических формах) Виолле-ле-Дюком 117 117 Эжен Эммануэль Виолле-ле-Дюк (1814–1879) – французский архитектор и исследователь готики, автор энциклопедических сочинений. Его реставрации средневековых памятников (Собор Парижской Богоматери, аббатство Сен-Дени, замок Пьерфон и др.) отличались субъективностью подхода и желанием скорее создать законченный художественный образ, нежели восстановить исторически достоверное состояние объекта.
, и о чувстве «подлинности», которое они вызывают у обывателей, поскольку соответствуют их представлениям о Средних веках, взятых из иллюстрированных книжек:
…так иной раз мелкий торговец, который кое-когда в воскресенье ходит осматривать «старинные здания», утверждает, что в том из них, в котором нет ни одного несовременного камня, своды которого выкрашены учениками Вьоле-ле-Дюка в синий цвет и усеяны золотыми звездами, особенно чувствуется средневековье 118 118 Пруст М. Содом и Гоморра / Пер. Н. М. Любимова. М., 1992. С. 249.
.
Мы приходим к тавтологии: переживание есть переживание, и для него не предполагается никаких критериев истинности помимо интенсивности.
Теперь можно вернуться к приведенным выше словам Светланы Бойм о реконструкции коллективного места обитания, которые, как нам кажется, нуждаются в пояснениях. Эти пояснения предоставляет нам Фридрих Георг Юнгер в разделе «Греческих мифов», посвященном веку Сатурна и тому, что представлял собой человек этих времен. Счастливая эпоха Сатурна предстает в описании Юнгера весьма странным Золотым веком, искренне тосковать по которому как-то не получается, хотя это и принято в культуре с незапамятных времен. Юнгер сосредоточил свое внимание на оборотной стороне, а может быть, и на условии этого всеобщего счастья – ведь по умолчанию предполагается, что тогда все были счастливы, – на неразделенности мира и человека (такое же отсутствие дистанции оказывается основой ностальгии).
В век Сатурна, разъясняет Юнгер,
ход человеческой жизни связан с титаническим порядком. <���…> Течение жизни – это течение времени, года, дня. Приливы и отливы сменяют друг друга, небесные светила совершают свое движение. Становление никогда не прекращается. Кронос властвует над круговоротом стихии, и всё возвращается, повторяется, уподобляется самому себе 119 119 Юнгер Ф. Г. Греческие мифы. СПб., 2006. С. 114.
.
И дальше:
Здесь [в Золотом веке] нет развития, нет прогресса, нет никакого изменения, запечатлеваемого памятью и воспоминанием; здесь присутствует лишь периодическое повторение поколений, возвращающихся назад и погружающихся в неизвестность. От них до нас ничего не доходит; они увядают, как трава, и опадают, как листья деревьев. Здесь человек еще не имеет судьбы… 120 120 Юнгер Ф. Г. Греческие мифы. С. 115.
,
поскольку – добавим от себя – он един с природой и даже смерть его естественна и не семиотизирована, но подобна увяданию осенней листвы. Этот мир так же бессловесен, как его обитатели.
Но это единство, продолжает Юнгер, каким бы жалким оно порой ни казалось, имеет и свои преимущества, поскольку «в царствование Кроноса человек живет в безопасности, в защищенности, которую он утрачивает во время царствования богов и которая вспоминается ему как утрата. Он вспоминает о ней и при этом забывает, в чем ее суть» 121 121 Там же. С. 117.
. Суть же этой защищенности заключается в полном психологическом отождествлении древнего человека с миром и (как следствие) в отсутствии индивидуальности, происходящей от сознания своей отдельности, от противостояния миру с его круговращением.
Другими словами, тождество с миром означает прежде всего отсутствие дистанции, этой крепостной стены, которую культура непрерывно возводит вокруг нас. Но именно такого слияния с миром и растворения в нем и добивается Анкерсмит в своих квазимемуарах, предназначенных стать основой исторической методологии.
Хорхе Луис Борхес в знаменитом рассказе «Фунес, чудо памяти» изображает человека, отождествлявшегося со своим воспоминанием, поскольку неспособного ни на йоту отклониться от него. Фунес был лишен возможности что-либо забывать, но он также не обладал воображением, этой первичной творческой способностью. Мы же, напротив, забывая (или придумывая) события своего индивидуального прошлого, чувствуем все увеличивающуюся дистанцию, отделяющую нас не только от предмета нашего воспоминания, но и от нас самих, какими мы когда-то были или казались себе.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
![Обложка книги Владислав Дегтярев - Барокко как связь и разрыв [litres]](/books/1149249/vladislav-degtyarev-barokko-kak-svyaz-i-razryv-lit.webp)


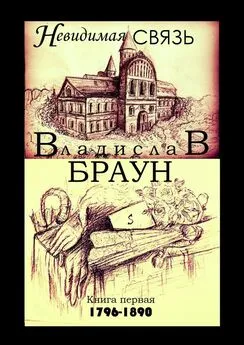
![Владислав Гайдукевич - Расширить сознание легально [litres]](/books/1065622/vladislav-gajdukevich-rasshirit-soznanie-legalno.webp)
![Владислав Жеребьёв - Бригадир. Судьба «Артефакта» [litres]](/books/1071125/vladislav-zherebev-brigadir-sudba-artefakta-l.webp)
![Дмитрий Владимиров - Красная книга начал. Разрыв [litres]](/books/1081398/dmitrij-vladimirov-krasnaya-kniga-nachal-razryv-li.webp)
![Владислав Выставной - Метро 2035: Крыша мира [litres]](/books/1086492/vladislav-vystavnoj-metro-2035-krysha-mira-litres.webp)
![Татьяна Гармаш-Роффе - Разрыв небесного шаблона [litres]](/books/1150397/tatyana-garmash.webp)