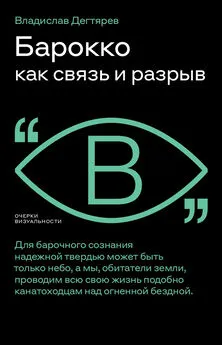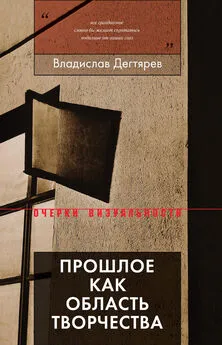Владислав Дегтярев - Барокко как связь и разрыв [litres]
- Название:Барокко как связь и разрыв [litres]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент НЛО
- Год:2021
- Город:Москва
- ISBN:9785444814918
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владислав Дегтярев - Барокко как связь и разрыв [litres] краткое содержание
Барокко как связь и разрыв [litres] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Темное начало проявляет себя не только в неподвижности, но и в бесчувственности «равнодушной природы», неспособной к изменению, к развитию. Сатурн, проглатывающий своих детей, не ведает эмпатии, но природа в ней и не нуждается, иначе эта эмпатия была бы направлена на самое себя. Поэтому бегство в природу и разотождествление – невозможная и страшная вещь.
Разговор о Сатурне по противоположности переходит в разговор о постбарочной современности, в которой положение и само существование человека не обеспечено ничем, помимо непрерывной готовности его подтверждать и поддерживать. Наша жизнь представляет собой постоянно повторяющееся усилие, писал Мераб Мамардашвили в «Лекциях по античной философии». Там же, где мы были слиты с природой, никакого усилия не требуется, можно только существовать в текущем моменте, т. е. вне времени, вне памяти и рефлексии. Для нас это не вполне жизнь, но именно так, согласно Ницше («О пользе и вреде истории для жизни»), существуют животные – без памяти, полностью поглощенные мгновением.
Современный мир состоит из процессов, а не из объектов, и эти процессы, в большинстве своем, линейны, а не цикличны. Возможно, выделение объектов из вечного круговорота взаимоперетекающих сущностей, осуществленное древнейшими мыслителями на заре времен, было интеллектуальной революцией, масштаб которой нам трудно оценить.
Продолжая разговор о Золотом веке, Фридрих Георг Юнгер, естественно, не может не заговорить о счастье.
Каким же было счастье, которым люди наслаждались в ту пору, – спрашивает он, – и почему воспоминание о ней так дорого им? Чтобы понять это, нам надо обратиться к собственному опыту… Когда мы сидим у какого-нибудь ручья или на берегу реки и смотрим на непрестанно текущую воду, когда прислушиваемся к нескончаемому монотонному журчанию и шуму, тогда это движение убаюкивает нас, нас как бы укачивает стихия, лишенная времени и судьбы, и это сообщается нам в каждом движении воды, в ее голосе. На берегу моря такое ощущение оказывается самым сильным. Оно появляется и тогда, когда мы смотрим на пламя… Мы не можем отвести глаз от движения стихии, а она как будто расплывается, застывает и становится похожей на сновидение. Глядя на такое движение, человек не просто отдыхает: оно вовлекает его, заставляя войти в себя. Он утрачивает свою индивидуальность, сознание, память… Человеку больше не надо быть начеку, не надо опасаться и быть расчетливым; он может предаться этому миру, не имеющему истории, и, отдавшись ему целиком, он чувствует счастье от этого. Но откуда идет этот мир? Только из круговорота, возвращения 202 202 Юнгер Ф. Г . Указ. соч. С. 116.
.
Нетрудно заметить, что такое счастье требует отказа от себя, растворения в стихии – и неважно, природная ли это стихия или же социальная. Рассказывая о мифической архаике, Юнгер подводит нас к разговору о ХХ веке.
Поколению олимпийских богов предшествовали титаны, примечательные прежде всего своим падением, которое столь ярко изобразил Джулио Романо в Палаццо дель Те.
Как олицетворения текучих стихий титаны не знают границы и формы, следовательно – не знают личности и имени.
Как стихии, подчиняющиеся вечному круговороту, они не знают случая и события, т. е. истории и памяти.
Согласно Юнгеру, основная черта титанов – в том, что они, будучи персонификациями природных стихий, были чужды человеческой соразмерности и потому оказываются странно современными, едва ли не футуристичными.
В главе о взаимоотношениях титанов и людей Юнгер напоминает нам о том, что «рыбак и мореход, отваживающийся пуститься в путь по воде, находится в титанической стихии, и то же самое на земле происходит с пастухом, охотником и земледельцем» 203 203 Там же. С. 112–113.
. Эта фраза требует развернутого комментария. Действительно, мы до сих пор воспринимаем море как стихию par excellence, опасную и непредсказуемую. Так Александр Блок, прочитав в газете о гибели «Титаника» (какое пророческое название, если вдуматься), написал в своем дневнике знаменитое «жив еще океан» – и последнее слово хочется начать с заглавной буквы, как имя греческого титана.
Вода, не дающая нашим ногам опоры, опасна сама по себе. Земля же, несмотря на свою твердость, все равно находится во власти божеств, хотя и несоизмеримых с человеком, но все же накладывающих на него свой отпечаток.
Человек приобретает титаническую сущность, – говорит Юнгер, – утрачивая меру в своем волеизъявлении… Титанизм человека заявляет о себе там, где жизнь понимается как только трудовая, а мир – как мир труда; титанизм проявляется в громадных замыслах и усилиях, которые превосходят всякую меру и терпят крах самым жалким образом, когда иссякают последние силы 204 204 Там же. С. 122.
.
Высказывания Юнгера, как и рассуждения Беньямина в «Происхождении немецкой барочной драмы», производят впечатление разговора о современности – точнее, об их современности , о 1930‐х годах, когда искусство ар-деко, сталкиваясь с грандиозностью и бесчеловечностью модернистских замыслов, пыталось их смягчить.
Иллюстрацией к словам Юнгера могли бы послужить графические листы «Нового города» Антонио Сант’Элиа (1914) – безлюдные пространства, заполненные огромными, истинно титаническими зданиями, часть из которых имеет ступенчатую форму, напоминающую вавилонские зиккураты. Исследователи не говорят о том, кто, по мысли Сант’Элиа, должен был возвести все эти постройки, хотя ответ очевиден. Единственным строителем подобных футуристических городов может быть деспотическое государство, утверждающее то, что оно понимает под величием, на презрении к отдельному человеку, на несоразмерности с ним.
В истинном же величии, продолжает свои рассуждения Юнгер, «есть постижение соразмерности; оно утверждается только благодаря мере. Там, где этой меры нет, не может быть никакого величия, там нечего измерять» 205 205 Юнгер Ф. Г . Указ. соч. С. 123.
. На принципах меры и пропорции, формы и границы основана вся греческая цивилизация, недаром Шпенглер упрекал греков в непонимании бесконечности, столь важной для фаустовской, барочной и романтической культуры Нового времени. Однако бесконечность опасна тем, что в ней легко раствориться и исчезнуть.
Что же касается Золотого века, то мы не располагаем никакими подтверждениями его реальности. Любые логические доказательства в его пользу могут быть лишь производными от доказательства бытия Бога, принадлежащего Ансельму Кентерберийскому. Если есть Бог как наибольшее из того, что можно помыслить, должно быть и состояние абсолютного счастья.
Выше мы уже говорили, что модернизм XIX–XX веков относится к модерну времен Декарта и Локка как эллинизм к греческой классике, теперь уточним это замечание. Можно видеть, что модернизм ставит под сомнение все то, что Новое время было склонно считать своими достижениями: антропоцентризм, рационализм, либерализм, идею прогресса. Если в эпоху барокко только рождавшийся антропоцентрический мир был слишком новым и еще непрочным, то в эпоху ар-деко он оказался подвергнут серьезному испытанию, от которого, кажется, так и не оправился до сих пор.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
![Обложка книги Владислав Дегтярев - Барокко как связь и разрыв [litres]](/books/1149249/vladislav-degtyarev-barokko-kak-svyaz-i-razryv-lit.webp)


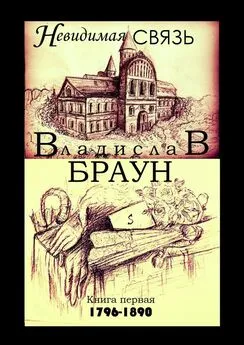
![Владислав Гайдукевич - Расширить сознание легально [litres]](/books/1065622/vladislav-gajdukevich-rasshirit-soznanie-legalno.webp)
![Владислав Жеребьёв - Бригадир. Судьба «Артефакта» [litres]](/books/1071125/vladislav-zherebev-brigadir-sudba-artefakta-l.webp)
![Дмитрий Владимиров - Красная книга начал. Разрыв [litres]](/books/1081398/dmitrij-vladimirov-krasnaya-kniga-nachal-razryv-li.webp)
![Владислав Выставной - Метро 2035: Крыша мира [litres]](/books/1086492/vladislav-vystavnoj-metro-2035-krysha-mira-litres.webp)
![Татьяна Гармаш-Роффе - Разрыв небесного шаблона [litres]](/books/1150397/tatyana-garmash.webp)