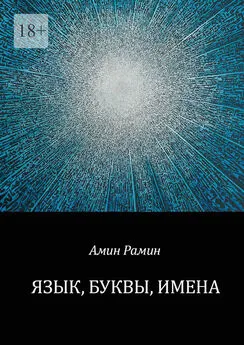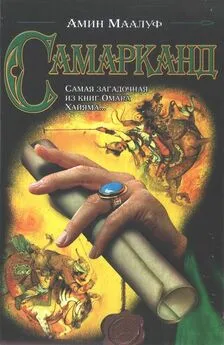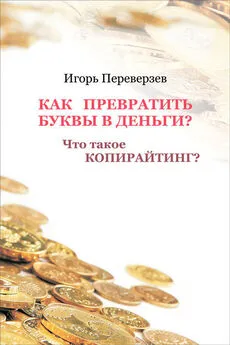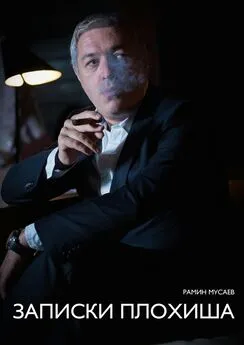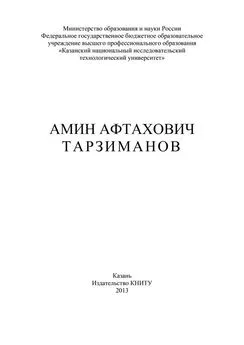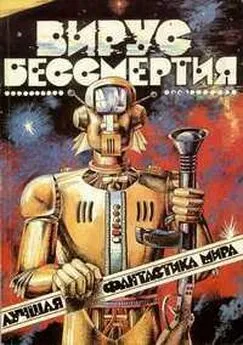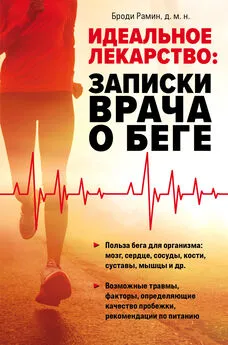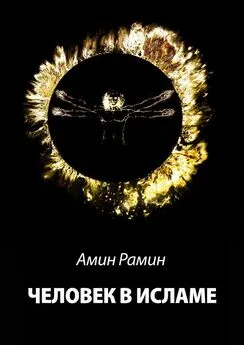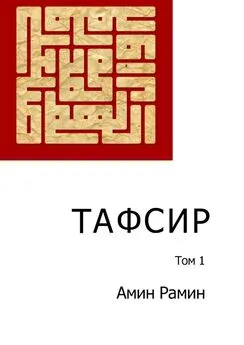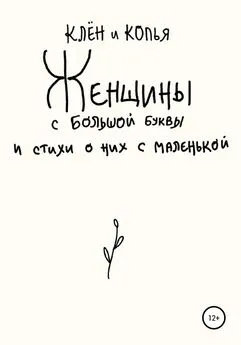Амин Рамин - Язык, буквы, имена
- Название:Язык, буквы, имена
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:9785005637482
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Амин Рамин - Язык, буквы, имена краткое содержание
Язык, буквы, имена - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Все попытки обучить обезьян человеческому языку закончились ничем. При этом, как оказалось, обезьяны могут усваивать некую сигнальную систему, основанную на механизме работы ассоциативной памяти. Удавалось обучить шампанзе жестовой системе, используемой глухонемыми. Например, шимпанзе посредством жестов говорила, указывая на банан: «Дай сладкий». Но было бы большой ошибкой делать отсюда вывод, что обезьяне присуще понимание человеческого языка. То, что тут происходит – это не формирование зачатков языка, а применение механизмов ассоциативной памяти и практического интеллекта. Зная, что банан сладкий и связав с этим жест, означающий «сладкий», шимпанзе пытается выразить своё желание съесть этот банан. Слово тут используется не как символ, указывающий на значение, а как стимул, ассоциирующийся с тем или иным событием либо свойством. Всё это лишь внешне напоминает использование языка, тогда как в действительности не имеет с ним ничего общего. Для обезьяны слово остаётся мёртвым грузом, набором шумов, она обращается с ним не как с событием своего внутреннего мира, а как с внешним стимулом, частью практической ситуации, рабом которой она является.
Некоторые специфические болезни, связанные с расстройством речи, позволяют нам наглядно понять, чем человек отличается от животного. В случае с болезнью, называемой «амнестической афазией», человек не может вспомнить слова – все или только некоторые, в зависимости от стадии болезни. Например, больной забывает слова, обозначающие цвета – красный, зелёный и т. д. К чему это приводит? Были проведены эксперименты с пациентами, страдавшими таким расстройством. При этом больной прекрасно различал цвета зрительно, просто не помнил их названия. В эксперименте ему показывали прядь-образец определённого цвета, например, красного, а затем давали пучок разноцветных прядей с просьбой отобрать из пучка все пряди такого же цвета, как на образце. И он не справлялся с этой простейшей, казалось бы, задачей.
С чем это связано? Дело в том, что больной непосредственно воспринимал само впечатление красного цвета, но он не понимал его понятийно. Для него не существовало абстрактного понятия «красное вообще» – «идеи красного», приложимой ко всем конкретным красным предметам. А поскольку такого понятия, выраженного в языке, у него не было, он не мог отделить каждую из конкретных красных прядей, которые видел, от прядей другого цвета. Любую отдельную красную прядь он воспринимал как «вот эту единичную прядь», он не выделял их в самостоятельный класс.
Обычный человек, взглянув на прядь красного цвета, сразу же в своей голове характеризует её как относящуюся к классу «красных», наделённую абстрактным качеством «красное». Затем он смотрит на пучок и ищет в нём представителей этого класса, к которым применимо то же самое абстрактное качество. И быстро их отбирает. Однако поскольку больной афазией не способен составить себе такой абстрактный класс, как «красное», не способен выделить «идею красного», для него существует только непосредственное зрительное впечатление красного цвета. И что же он начинал делать? Если прядь-образец отнимали у него, то он становился совершенно беспомощен и вообще не понимал, чего от него хотят, утверждая, что «все цвета похожи», а потому «никто не справится с такой задачей». Это понятно, ведь зрительный образ пряди улетучивался от него, а «красное вообще» он не мог осознать. Если же прядь-образец оставалась у него в руках, то он прибегал к следующему приёму: прикладывал её к каждой отдельной пряди в пучке, пытаясь отобрать те из них, которые зрительно более-менее похожи по цвету на эту прядь.
Итак, вот в чём отличие человека от животного: в знании имён, в языке, в абстрактном мышлении, в способности выделять идею любой вещи. Животное видит каждое отдельное дерево, каждый отдельный дом, каждый отдельный камень – как «вот-этот-предмет», источник конкретных зрительных или тактильных впечатлений, существующий «здесь и сейчас». Оно не способно составить в своей голове идею «дерева вообще», «дома вообще», «камня вообще». В данном эксперименте пациент действовал как животное: забыв имена, он воспринимал только «вот этот красный цвет», не в силах составить себе абстрактную идею «красного». А потому ему надо было так же зрительно сопоставить этот конкретный красный предмет с другими наглядными и единичными предметами, чтобы найти их сходство.
Я остановился на этом примере, потому что он очень хорошо показывает преимущество языка. Через язык мы имеем в своей голове абстрактную картину реальности, не привязанную ни к какому «здесь и сейчас», ни к каким наличным предметам и явлениям. Животное – раб конкретной практической ситуации, за пределы которой оно не может вырваться. Человек же обладает своим собственным царством смыслов, ценностей и значений, существующим в его сознании. А потому он всегда «над» миром, всегда «выше» любой практической ситуации и даже самого себя. И по этой же самой причине человек и только человек может «сойти с ума». Животному не грозит стать шизофреником, потому что у него нет ни мышления, ни языка. Оно всегда находится в гармонии с самим собой, потому что не может выйти за пределы самого себя.
В случае с больными афазией, очевидно, утрата слов связана с забвением самих понятийных категорий, к которым они привязаны. У такого человека не просто отсутствует способность вспомнить слово «красный» – он потерял саму абстрактную категорию «красного», саму «идею красного». В работе его программы, называемой «говорящей душой» (или «разумной душой», что одно и то же), произошёл какой-то сбой, из-за которого она не может считать соответствующую идею из всеобщего Разума или Духа. Это подобно тому как в результате определённых биологических сбоев организму не удаётся считать некоторые участки информации с ДНК.
И отсюда понятно, что слова и идеи связаны друг с другом в одно неразделимое целое. Это хорошо выражено в арабском слове исм , которое означает одновременно и «имя», и «идею» предмета. Этим асма (множественное от исм ) Творец обучил Адама, согласно аяту Корана: « И обучил Он Адама всем именам » (2: 31). В принципе, в русском языке слово «имя» тоже обозначает не только слово, а слово, выражающее идею. Аллах обучил Адама именам, а не просто словам – потому что слов для одного и того же понятия может быть много, и в каждом языке они разные. Тогда как суть, идея каждой вещи одна. Через это обучение Адам впервые актуально стал человеком, а до него он был человеком лишь потенциально, был «моделью человека».
А потому не существует бессловесного мышления, не опосредованного языком. Да, мы можем попробовать мыслить бессловесно, как бы с помощью «картинок», но этот эксперимент не сможет продолжаться долго – мысли начнут теряться, проваливаясь куда-то в ничто. И даже такое мышление на глубинном уровне всё равно будет опосредовано нашим знанием языка.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: