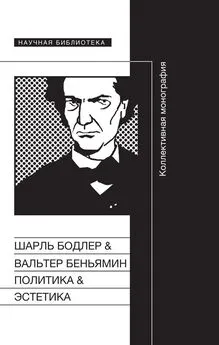Екатерина Сальникова - Искусство в контексте пандемии: медиатизация и дискурс катастрофизма. Коллективная монография
- Название:Искусство в контексте пандемии: медиатизация и дискурс катастрофизма. Коллективная монография
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:9785005131270
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Екатерина Сальникова - Искусство в контексте пандемии: медиатизация и дискурс катастрофизма. Коллективная монография краткое содержание
Искусство в контексте пандемии: медиатизация и дискурс катастрофизма. Коллективная монография - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Черная смерть страшила людей даже больше, чем проказа.
Но вернемся в Венецию, к административным мерам дожа Андреа Дандоло.
Помимо карантина, были запрещены торговля вином и азартные игры, закрыты трактиры, рынки и публичные дома. Специальные похоронные команды занимались сбором тел умерших, а горожанам запретили устраивать громкие похоронные процессии. Одно из главных средств борьбы с эпидемией звучало так: бежать из зараженной местности и в безопасности дожидаться конца эпидемии . Существовала присказка: « дальше, дольше, быстрее »: то есть бежать как можно дальше и как можно быстрее, оставаться вдали от чумных городов, кладбищ, скотомогильников, грязной воды и огородов с их влажной почвой как можно дольше.
Настоятельно рекомендовалось очищать воздух в доме и округе. С этой целью ставили в комнату умершего блюдечки с молоком, которое якобы поглощает заразу, с этой же целью разводили пауков, жгли костры на улицах и окуривались дымом ароматных трав. Широко практиковалась индивидуальная защита: как можно чаще нюхать цветочные букеты, бутылочки с духами, пахучие травы и ладан, наглухо закрывать окна и двери пропитанной воском тканью, чтобы не допустить в дом зараженный воздух.
Административные меры позволяли сохранять порядок, но мало способствовали искоренению чумы. Чумные доктора носили клювастые маски, рубахи черного цвета из кожи или вощеной ткани до пят, штаны, высокие сапоги и перчатки; в руки чумные доктора брали длинную трость, чтобы не дотрагиваться до больного руками. Чумные бубоны вскрывались и прижигались раскаленной кочергой, к ним прикладывали шкурки жаб и ящериц, якобы вытягивающих из крови яд. Знаменитая маска с клювом стала одним из символов средневековья. Тем не менее многие доктора, как и священники, погибали – и в попытках оказать помощь больным, и принимая последнюю исповедь умирающих. Встречались врачи, которые, разуверившись в своем искусстве, возвращали по смерти больного полученные ими деньги. Молитвы не помогали, народ роптал, множились еретические секты. Эпидемия унесла 60% населения Венеции, 80% населения Авиньона, папской резиденции. Жертвой авиньонской чумы стала Лаура де Нов – предположительно, муза Франческо Петрарки.
Жертвами чумы, длившейся в Италии почти 300 лет, были выдающиеся художники Ренессанса: Амброджо Лоренцетти (1290—1348), Андреа дель Кастаньо (1423—1457), Пьетро Перуджино (1446—1523), Ганс Гольбейн Младший (1497/1498—1543), Тициан Вечеллио (1488/1490—1576).
«Декамерон». Две недели без Черной смерти
К середине XIV века Европа вообще и Италия в частности претерпели столько страданий, потеряли столько выдающихся людей и простых граждан, столько раз задавали себе вопросы «за что?» и, привычно рассуждая о Божьей воле, которой наказываются народы за грехи неверия, гордыни, распутства, пытались все же осмыслить и описать происходящее. Многие историки, писатели, поэты, художники становились свидетелями и хроникерами Черной смерти, а если удавалось уцелеть, – и летописцами. Центральный вопрос, который обсуждался в дни, месяцы и годы эпидемий, начиная с Афинской чумы, описанной Фукидидом, было поведение людей в разгар беды и уроки, которые они извлекали, если удавалось ее пережить.
Люди ничему не учились. Все повторялось. Флорентийский хронист и дипломат Джованни Виллани писал: «Полагали, что те, кому Господне милосердие сохранило жизнь, видя погибель своих ближних и слыша об истреблении многих народов мира, одумаются, смирятся, вернутся к добродетели и католическому благочестию, станут воздерживаться от грехов и неправедных поступков, преисполнятся любовью и сочувствием друг к другу. Но только что мор прекратился, вышло совсем по-другому. Людей осталось слишком немного по отношению к унаследованным ими земным благам, так что, забыв о прошлом, словно ничего и нe было, они ударились в невиданный ранее разгул и бесстыдный разврат. Отставив дела, они предавались пороку обжорства, устраивая пиры, попойки, празднества с утонченными яствами и увеселениями, не знали удержу в сластолюбии, наперебой выдумывали необыкновенные и причудливые платья, часто непристойного вида, и переменили вид всей одежды. Простонародье, как мужчины, так и женщины, ввиду избытка всех вещей, не желали заниматься своим привычным трудом, пристрастились к самым дорогим и изысканным кушаньям, устраивали свадьбы, а прислуга и уличные женщины надевали платья, оставшиеся от благородных дам. Почти весь наш город очертя голову погрузился в постыдные утехи, в других местах и по всему свету было еще хуже» [28].
Умер Джованни Виллани во время самой сильной вспышки чумы в середине 1348 года, успев увидеть последствия прежних эпизодов. Об этом же, подытожив сведения итальянских хроник, писал академик А. Н. Веселовский: «Когда миновала чума, унесшая, как говорят, две трети населения, началась пора расточительности. Богатства, накопленные случайно, не ценились, продавали за треть стоимости; много пришлось тогда на долю церквей и монастырей. Чувственность, долго сдержанная страхом, не знала теперь удержа: женились повально, старые и молодые, монахи и инокини, в любое время, не дожидаясь положенного для благословения брачующихся воскресенья; девяностолетний старик брал за себя девочку. Жилось напропалую, о цене не спрашивали, рынок был переполнен всякой живностью, поднялся спрос на предметы роскоши, как прежде на лекарства. Народу поубавилось, зато возросло любостяжание: стали жениться на деньгах, насильно увозя богатых невест» [29].
Итальянский писатель и поэт, ярчайший представитель раннего Возрождения, Джованни Боккаччо создал в 1352—1354 годах по следам чумы 1348 года великую книгу своего времени – собрание ста новелл «Декамерон», или «Десятидневник». События книги происходят как раз во время той самой эпидемии. Трое благородных мужчин (самому юному не меньше 25 лет) и семь дам от 18 до 28 лет, связанные дружбой, соседством либо родством, случайно встретившись в церкви Санта Мария Новелла, уезжают из охваченной чумой Флоренции на богатую загородную виллу в двух милях от города. Все десятеро принадлежат к высшей городской знати, все образованные и воспитанные. Устав от смертей, взяв с собой слуг, яства и вина, они бегством спасаются от болезни, рассказывая друг другу занимательные истории – здесь и оригинальные сочинения Боккаччо, и городские анекдоты, и нравоучительные примеры из жизни, и восточные сказки. Ежедневно звучит по десять историй, в конце каждого дня одна из дам исполняет стихотворную балладу, где воспеваются радости чистой любви либо страдания любящих, которым что-то мешает соединиться. Автором баллад был сам Боккаччо.
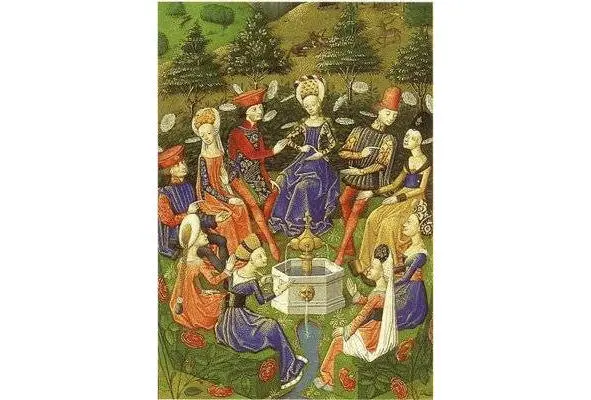
Илл. 3. Рассказчики «Декамерона». Миниатюра XIV века
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: