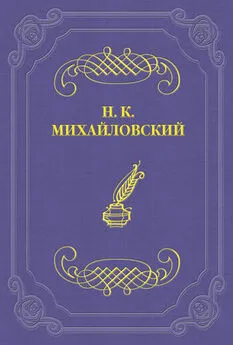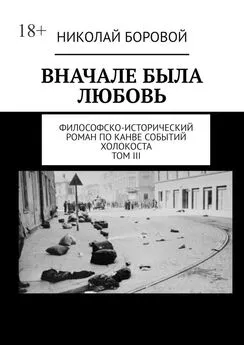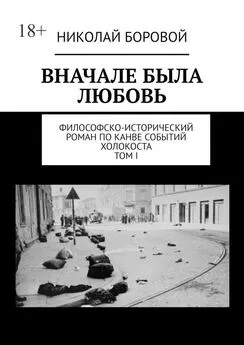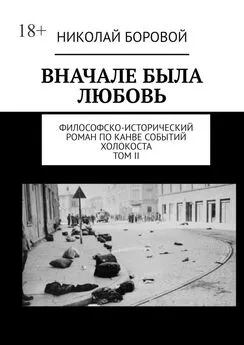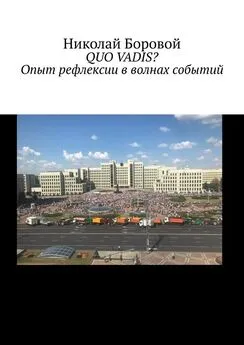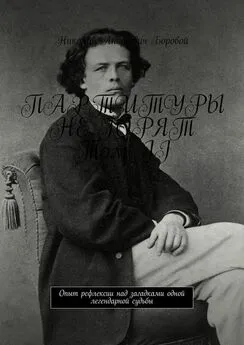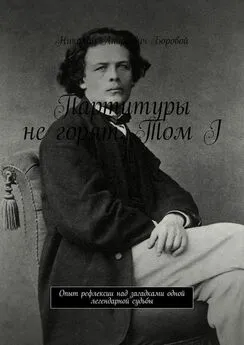Николай Боровой - Два философских письма о парадоксах разума и истоках нигилизма. Опыт рефлексии и дискуссии
Тут можно читать онлайн Николай Боровой - Два философских письма о парадоксах разума и истоках нигилизма. Опыт рефлексии и дискуссии - бесплатно
ознакомительный отрывок.
Жанр: Философия.
Здесь Вы можете читать ознакомительный отрывок из книги
онлайн без регистрации и SMS на сайте лучшей интернет библиотеки ЛибКинг или прочесть краткое содержание (суть),
предисловие и аннотацию. Так же сможете купить и скачать торрент в электронном формате fb2,
найти и слушать аудиокнигу на русском языке или узнать сколько частей в серии и всего страниц в публикации.
Читателям доступно смотреть обложку, картинки, описание и отзывы (комментарии) о произведении.
- Название:Два философских письма о парадоксах разума и истоках нигилизма. Опыт рефлексии и дискуссии
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:9785005047564
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Николай Боровой - Два философских письма о парадоксах разума и истоках нигилизма. Опыт рефлексии и дискуссии краткое содержание
Два философских письма о парадоксах разума и истоках нигилизма. Опыт рефлексии и дискуссии - описание и краткое содержание, автор Николай Боровой, читайте бесплатно онлайн на сайте электронной библиотеки LibKing.Ru
Приводимые в данной публикации тексты родились из философской переписки и дискуссии с коллегами, затрагивавшей давно волнующие автора проблемы… Автор попытался максимально сохранить их изначальный вид и счел формат философского письма наиболее приемлемым…
Два философских письма о парадоксах разума и истоках нигилизма. Опыт рефлексии и дискуссии - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Два философских письма о парадоксах разума и истоках нигилизма. Опыт рефлексии и дискуссии - читать книгу онлайн бесплатно (ознакомительный отрывок), автор Николай Боровой
Тёмная тема
↓
↑
Сбросить
Интервал:
↓
↑
Закладка:
Сделать
д., формируется и соответствующее отношение к человеку как «средству» и «материалу», предназначенному для реализации «великих», «всеобщих», «коллективных» целей. Приемлемым становится сгноить, уничтожить многие тысячи таких «индивидов», «статистических единиц» во имя «величия и утверждения нации», «всеобщего прогресса», реализации великих социальных и политических замыслов и т.д., а проще говоря – на полях сражений, в «буднях» концентрационных лагерей и «великих строек», воплощения социальных программ и т. д. Патриотизм, идеи «всеобщего прогресса», верности человека расовому и национальному происхождению, предназначающей его для утверждения и процветания его «рода» – все это лишь «идолы», в служении которым оформляется извращенное понимание человека и извращенное, нигилистическое отношение к единичному человеку и его бытию, иначе – исчезновение из сознания эпохи гуманистического сознания личности в человеке и ее безусловной ценности. Проще говоря, дегуманизация бытия и сознания человека, становление нигилистического отношения к человеку происходят в сопряжении с торжеством, абсолютизацией «социологической» парадигмы человека и помутнением в сознании эпохи экзистенциального понимания человека, символики экзистенциального опыта. Поразительно то, что низложение ценностей экзистенциальных и гуманистических ложится в основание общественной «морали» и «социальной нормы», довлеющей над социальной средой «системы ценностей и идеалов», преступления против человечности привычно оправдываются моральными соображениями, высокими целями и идеалами, превышающими, как предполагается, ценность единичного человека и его жизни. Нацистские преступники недоуменно оправдывают жестокость в отношении к врагам нации и расы «моральным долгом перед отечеством», необходимость массово умирать и убивать оправдывается борьбой за свободу и социальную справедливость, всеобщий прогресс и созидание нового миропорядка. Принципиально утверждает себя – на уровне практики и повседневности – довление ценностей коллективных и абстрактных, социальных над ценностью «единичного», что в конечном итоге обращается визуальным торжеством нигилизма, его невиданными масштабами. Парадокс и загадка в том, что нигилизм пронизывает собою «мораль», «социальную норму», «этос» социального бытия, застывает в морально-ценностных категориях, довлеющих над обществом и его сознанием, бытием индивида внутри общества. При этом апофеоз массовости и безликости, тотальность довления социальной среды над человеком, отождествление «моральности», «полноценности» человека с необходимостью для него жить и поступать «как все», разделять нормативные для общества и среды установки, становятся фактором наибольшего отдаления человека от нравственных истоков его бытия. Правда в том, что цивилизация познает обрушение в бездну уничтожения и отрицания именно с высоты «ценностей» и «идеалов», вдохновляющих ее бытие «моральных парадигм», пережитая ею в середине ХХ века катастрофа обращается попытками переосмысления «морали» и «ценностных идеалов», возвращения к нравственным истокам человеческого бытия, к преданным забвению экзистенциальным и гуманистическим ценностям. Приведя к катастрофе уничтожения и отрицания, низложения фундаментальных ценностей существования, извращенная мораль цивилизации ищет истоки возрождения и обновления, которые призваны предотвратить последующую катастрофу, в контексте этого процесса впервые осмысливается и осуждается «идеология», пронизывающий определенную «систему ценностей и идеалов» нигилизм. Советские гуманисты времен «оттепели» расшатывают привычное сознание и привычную мораль, задавая вопрос – приемлемо ли, что «родина», «общество» и «прогресс» есть для нас «все», а отдельный человек в трагизме и неповторимости его судьбы – «ничто»? Перед нами предстает феномен извращения «социальной нормы», извращения «этоса» и «ментоса» социального бытия, довление которого над отдельным человеком становится синонимом его отдаления от истоков его человечности, соучастия в творимых обществами и режимами преступлениях. Парадокс в том, что извращение социальной нормы и социального бытия превращает человечность в путь совести и личной ответственности, путь одиночества, риска и противостояния, связывает человечность человека с раскрытостью его личностного начала, его способности на путь свободы и ответственности за себя, противостояния с позиций совести «морали», ценностям и идеалам социальной среды. Позиция совести как никогда означает одиночество и противостояние, скепсис и отрицание в отношении к морально-ценностным установкам социальной среды, вследствие чего нередко предстает как «аморальность», «отщепенничество», «нигилизм», надежда на человечность человека становится связана с его свободой и личностным началом, способностью действовать из внутренних истоков и долженствований, под личную ответственность. Как никогда человечность человека, сама его сущность становятся связанными с его личностным началом, его самобытностью, с его «больше-чем-социальностью», готовность человека действовать, опираясь на правду совести и непреложный характер ее требований, исходя из полноты личной ответственности, становится залом того, что человек будет человечен. Как никогда позиция совести подразумевает низложение общепринятых ценностей, установок, моральных норм, противостояние социальной среде, преступление против законов государства, решимость человека смотреть на мораль общества и законы государства скептически, критически. Потому то свобода и личность, все то, что неотвратимо связано с ними – совесть, опыт моральной ответственности, способность решать, критичность мышления и восприятия – оказываются наиболее опасными, враждебными для социальной среды, утверждающей свою «монолитность» через тотальность ее довления над человеком. Подчинение и «ведомость», растворенность в бытии среды, следование в русле навязанных ею ценностей и установок, неспособность человека отнестись к происходящему с позиций личной совести и личной ответственности, становятся почвой превращения человека в орудие преступлений, совершаемых им в рамках его «социальной нормативности» и «моральности», лояльности законам государства и общепринятым нормам. Посмотрев на этот снимок, попробуй не задайся вопросом – как же это возможно, что бы обычный, «социально нормативный» человек, поступающий в русле моральных установок, идеалов и ценностей социальной среды, массово оказался способен на совершение деяний, преступающих против последней ценности существования и человека? Как возможно, что бы человек и существование настолько утратили ценность в сознании, установках и ментальности массы, в мощи властвующих над ней аффектов, мифов, идей? Как может апофеоз нигилизма и отрицания, низложения ценности бытия превратиться в эпохальное, экзистенциальное состояние человека внутри цивилизации, оформляющееся в облике исторических катастроф, становлении тоталитарных идеологий и обществ, безраздельной власти над массой воли кровавых диктаторов, абстрактных идей и иллюзий? Подобное низложение ценности существования и человека в вихрях социальных и исторических катастроф – не является оно лишь выражением низложенности ценности человека и его бытия в «этосе» цивилизации, в ее нормах и буднях, в привычных реалиях того человеческого мира, который потрясают эти катастрофы? Может быть торжество нигилизма, пронизывающее облик исторических событий, является лишь следствием и выражением той обесцененности человека и существования, которая заложена в морали и основополагающих парадигмах цивилизации, в «устойчивых», «типических» формах существования человека, которые она продуцирует, проще говоря – в том положении в мире, на которое цивилизация обрекает человека? Подобные ужасы, определяющие облик исторических событий, объяснимы только превращением нигилизма, культа смерти и отрицания в экзистенциальное состояние массы, само это в свою очередь может быть объяснимо только глубочайшими подвижками в способе существования человека, дегуманизацией мира и бытия человека внутри цивилизации, проще говоря – глубочайшими и трагическими противоречиями в способе существования человека внутри цивилизации и того положения, на которое она его обрекает.Читать дальше
Тёмная тема
↓
↑
Сбросить
Интервал:
↓
↑
Закладка:
Сделать