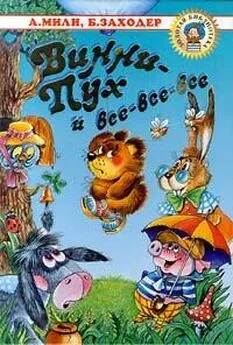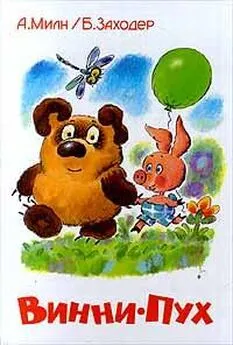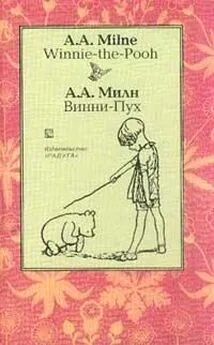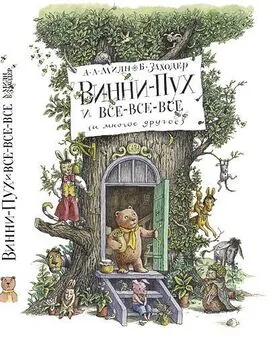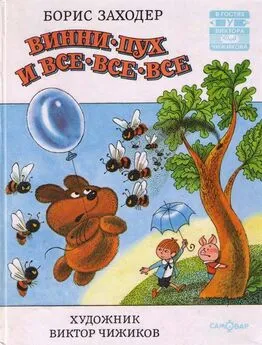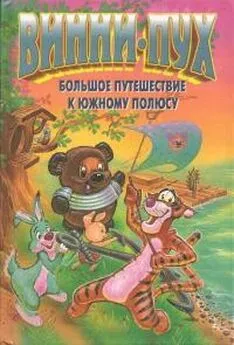Вадим Руднев - Винни Пух и философия обыденного языка
- Название:Винни Пух и философия обыденного языка
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Аграф
- Год:2000
- Город:М.
- ISBN:5-7784-0109-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Вадим Руднев - Винни Пух и философия обыденного языка краткое содержание
Книга впервые вышла в 1994 году и сразу стала интеллектуальным бестселлером (2-е изд. – 1996 г.). В книге впервые осуществлен полный перевод двух повестей А. Милна о Винни Пухе.
Переводчик и интерпретатор текста «Винни Пуха» – московский филолог и философ В. П. Руднев, автор книг «Морфология реальности: Исследование по философии текста» (1996), «Словарь русской культуры: Ключевые понятия и тексты» (1997, 1999), «Прочь от реальности: Исследования по философии текста. II» (2000).
Книга представляет «Винни Пуха» как серьезное и глубокое, хотя от этого не менее смешное и забавное, произведение классического европейского модернизма 1920-х годов. Для анализа «Винни Пуха» применяются самые различные гуманитарные дисциплины: аналитическая философия, логическая семантика, теоретическая лингвистика и семиотика, теория речевых актов, семантика возможных миров, структурная поэтика, теория стиха, клиническая характерология, классический психоанализ и трансперсональная психология.
Книга, давно ставшая культовой для русского интеллектуального читателя, интересна детям всех возрастов и взрослым всех профессий.
Винни Пух и философия обыденного языка - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
12.
Стихотворение переведено разностопным хореем 4343 АбАб, традиционным в русской поэзии размером колыбельной песни («Спи, младенец мой прекрасный, / Баюшки-баю…») [ Гаспаров 1983 ].
13.
Заключительные слова рассказа пародируют элементы этиологического мифа – о происхождении имен [ Мелетинский 1976 ].
14.
От звукоподражания hum – хмыкать.
15.
В этом абзаце рефлексия над проблемой отсутствия самотождественности сочетается с перинатальной тематикой (см. также вступительную статью, раздел 6). По сути, глава посвящена вторичному переживанию своего рождения Пухом с целью снятия психологической травмы (для Пуха символом этой травмы является его тучность, которая ассоциируется с беременностью, – он наедается у Кролика и не может вылезти из норы. Соотнесенность тучности и беременности является, по Э. Фромму, универсальным символом [ Fromm 1951 ]. Дыра в земле, в которую Пух лезет головой вперед, олицетворяет материнское лоно, так же как и сама земля в мифологии отождествляется с материнским лоном (мать-сыра земля).
16.
Здесь происходит игра на прагматических парадоксах и необходимых истинах. «Я здесь» – прагматически истинное высказывание, «Меня здесь нет» – прагматически ложное. Кролик, отрицая факт своего присутствия, самим фактом отрицания выдает свое присутствие.
17.
Как уже говорилось выше (см. вступительную статью), Пух, который плохо разбирается в абстрактной лексике (не понимает длинных слов и косвенных речевых актов) и, напротив, очень силен в конкретной прагматической стихии речевой деятельности. Кажется тривиальным, что Пух понимает, что кто-то должен сказать «Никого». Но, вероятно, если бы сходный случай произошел с оторванным от речевой прагматики Сычом, то последний мог бы удовлетвориться ответом вроде: «Ах, никого. Ну тогда понятно. Приношу свои извинения!» Реалистичность Пуха ни в коей мере не противоречит его логико-прагматическим способностям: для того, чтобы утвердить ценность действительного мира, необходимо понять и оценить то, как могли бы обстоять дела в других положениях вещей (в других возможных мирах).
18.
Мучения Пуха, застрявшего на самом выходе из дыры, соответствуют, по С. Грофу, четвертой перинатальной матрице – характерное сочетание агрессивности и оптимизма [ Гроф 1992 ].
19.
Описанное здесь действие напоминает обряд кувады, описанный еще Тейлором и Фрезером, когда муж, чтобы помочь рожающей женщине, проделывает магические действия, связанные с символическим рождением [ Фрэзер 1992 ].
20.
Интерпретацию имени этого персонажа см. в статье «Обоснование перевода».
21.
В оригинале Trespassers W – обрывок объявления, которое могло бы висеть перед частным владением: «Trespassers will be prosecuted» (Нарушители границ будут преследоваться по закону) [ Milne 1983: 398 ].
22.
На уровне языка эллиптические высказывания И-Ё являются характерным примером говорения ни о чем, которое развито в ВП чрезвычайно сильно (см. раздел 8 вступительной статьи). На психологическом уровне этой эллиптичности соответствует неопределенность ситуации. И-Ё понимает: что-то с ним не в порядке, но не знает, что именно.
23.
Невозмутимая покорность к такого рода вещам заставляет вспомнить произведения Ф. Кафки.
24.
Утешение является достаточно сложным речевым актом. В терминах А. Вежбицкой его экспликация могла бы выглядеть примерно так: «Зная, что ты находишься в плохих обстоятельствах и что ты бы хотел находиться в хороших обстоятельствах, и желая тебе этого, я говорю тебе, что обстоятельства переменятся» [ Wiersbicka 1970 ]. Для Пуха это слишком абстрактно. Сделать что-то полезное – это сфера практической прагматики, в которой он силен: если потерян хвост, надо его найти, а если день рождения, надо делать подарки. Два раза Пуху удается помочь И-Ё не пустыми разговорами, а продуктивными действиями.
25.
Пейзаж в ВП достаточно своеобразен. Природа будто принимает живое участие в действии. Можно сказать, что обитатели Леса настроены пантеистично. Солнце, снег, ветер, вода, холод, жара – важные атрибуты, сопровождающие ключевые главы книги. При этом солнце несет бодрость, ветер – разрушение, холод – заставляет заботиться о жилье, вода – символ времени и смерти.
26.
1 акр = 0,4047 Га. По воспоминаниям К. Милна, реальный лес-прототип Леса насчитывал пять акров [ Milne 1983: 80].
27.
Пример широкого использования дейксиса в ВП . Подробнее см. в разделе 8 вступительной статьи.
28.
Каштаны.
29.
Искаж. англ. «Пожалуйста, звоните, если требуется ответ».
30.
Искаж. англ. «Пожалуйста, подергайте, если не требуется ответ».
31.
Комизм здесь в том, что Пух сам употребляет длинные слова.
32.
Сыч стоит тут на отвлеченно-семантической позиции: предполагается, что чихнувший должен осознавать, что он чихнул. Пух придерживается конкретно-прагматической позиции. Нельзя знать, что кто-то чихнул, если никто не чихал. Для Сыча знание о собственном чихании входит в семантику слова «чихнуть». Для Пуха важно, что чихнуть можно и не заметив этого, но вот услышать несуществующее чихание невозможно.
33.
Прагматическая защита от безудержного речеупотребления состоит в отключении сознания одного из участников беседы от разговора и переключении на что-то свое.
34.
Характерное для ВП речеупотребление, когда упор делается не на то, о чем говорится, а на дейктическое оформление. В прагмасемантике языка именно это оформление особенно важно. Единицами живой речи являются реплики в диалоге. При этом важно не только то, что говорится, но сам факт, что это говорится. Так, фраза «Если ты понимаешь, что я имею в виду», одна из самых знаменитых в ВП , имеет не столько семантический, сколько прагматический смысл. Значение этой фразы может быть реализовано только в контексте ее конкретного употребления. Причем принципиально важно, что у говорящего и слушающего денотат может не совпадать.
35.
По-английски Пух это слово произносит, как это делают дети, прибавляя лишний звук: haycorns вместо acorns [ Milne 1983: 400 ].
36.
Стихотворение переведено 4-стопным хореем, одной из семантических окрасок которого в русской поэзии является мотив бессонницы, утраты и смерти. Отсюда перекличка в переводе с пушкинским стихотворением «Мне не спится, нет огня…» («Стихи, сочиненные ночью во время бессонницы»), которое входит в своеобразный 4-стопнохореический цикл стихов Пушкина, связанных этой экспрессивно-семантической окраской («Бесы», «Зорю бьют…», «Если жизнь тебя обманет…», «Зимний вечер» («Буря мглою небо кроет…»).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: