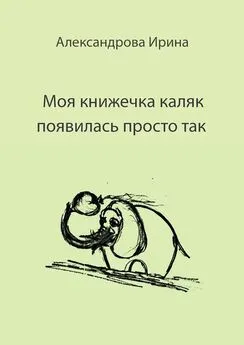Ален де Бенуа - Как можно быть язычником
- Название:Как можно быть язычником
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Русская Правда
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Ален де Бенуа - Как можно быть язычником краткое содержание
Это первое крупное произведение знаменитого французского философа, выпущенное в России на русском языке. В этой книге автор убедительно доказывает, что язычество — это не только далекое прошлое человечества, но и, в новой форме, наше неотвратимое будущее. Для широкого круга читателей.
Как можно быть язычником - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Основополагающее монотеистическое утверждение содержится в Книге Исхода, в которой Яхве говорит Моисею: «Ибо ты не должен поклоняться богу иному, кроме Господа; потому что имя Его — «ревнитель»; Он — Бог ревнитель. Не вступай в союз с жителями той земли, чтобы, когда они будут блудодействоватъ, вслед богов своих и приносить жертвы богам своим, не пригласили и тебя, и ты не вкусил бы жертвы их. И не бери из дочерей их жён сынам своим, дабы дочери их, блудодействуя вслед богов своих, не ввели и сынов твоих в блужение вслед богов своих» (34, 14–16). (По поводу «ревности» Яхве Ницше замечал: «Они считают себя бескорыстными в любви, потому что хотят выгод для другого существа, часто наперекор собственным выгодам. Но взамен они хотят владеть этим другим существом… Даже Бог не является тут исключением (…) Он становится ужасен, если ему не платят взаимностью» («Казус Вагнер»). Тем не менее, если в этих словах и утверждается несравнимость Яхве, в них не утверждается несуществование других богов. Именно по этой причине в случае с Моисеем многие авторы предпочитают говорить об «эмоциональном монотеизме» или «монолатрии». Как пишет Рафаэль Пате, яхвизм до завоевания Ханаана является «своего рода монолатрией, тяготеющей к этническому монотеизму» (op. cit., p. 39). Знаменитый стих Второзакония «Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь един есть» (6, 4), который и сегодня остается началом схемы, истолковывается некоторыми как «Слушай, Израиль: Господь на есть Бог, один Господь». Другими словами эта формула «не отрицает решительным образом существования других богов. Она ограничивается запретом их культа. Она не выходит за рамки Первой заповеди. Как и эта заповедь, она ратует не за монотеизм, а за монолатрию» (Valentin Nikiprowetzky, Le monothisme thique et le specifit d’Isral, in V. Nikiprowetzky, d., De l’antijudaisme antique a l’antisemitisme contemporain, Presses universitaires de Lille, Villeneuve-Ascq, 1979, p. 31). Луази также поддерживает эту точку зрения и даже видит в «монолатрии» шаг назад по отношению к политеизму, связанный с гипертрофией «чувства национального тщеславия и религиозного фанатизма» (op. cit.). Синайское законодательство не представляется всем народам, оно является пока только лишь договором Завета, заключенным между Яхве и его людьми. Даже сам Яхве не отрицает существование других богов: он довольствуется проклятиями в их адрес. Да и вообще, каким образом он мог бы «ревновать» к тому, чего не существует? Не является ли сама его «ревность» доказательством существования других богов? Автор Второзакония провозглашает: «Господь, Бог ваш, есть Бог богов и Владыка владык» (10, 17). Подобные утверждения встречаются и в более поздних частях Библии: «Велик Бог наш, выше всех богов» (Пс 94, 3), Яхве «страшен паче всех богов» (Пс. 95, 4), он «превознесен над всеми богами» (Пс. 96, 9), он «истребит всех богов земли» (Соф. 2, 11) и т. д. Таким образом, в эпоху Моисея следует говорить не о подлинном монотеизме, а о монолатрии и генотеизме, то есть системе, при которой человек считает всемогущим только лишь того Бога, к которому обращает свои молитвы.
Только у Второ- и Девторо-Исайи (40–55) иудео-христианское единобожие обретает свою законченную форму. Один лишь Яхве является Богом: «Прежде Меня не было Бога, и после меня не будет. Я, Я Господь, и нет Спасителя кроме меня» (43, 10–11), «Нет кроме Меня; Я Господь, и нет иного» (45, 6). Прочие божества суть чистое небытие: «Вы — ничто, и дело ваше ничтожно; мерзость тот, кто избирает вас» (41, 24), «Вот, все они — ничто, ничтожны и дела их; ветер и пустота — истуканы их» (41, 29). Яхве — единственный бог (скорее чем один бог: «один» подразумевает конечность, а Яхве бесконечен). В этот момент движение достигает своего конца, и возможно, что это полное утверждение побудило редакторов Библии ретроспективным образом пересмотреть свою историю в смысле единственности. «Эта история , — пишет Жан-Луи Тристани, — слишком хорошо отвечает требованиям монотеистической эпопеи, чтобы быть честной. Идет ли речь об исходе Авраама из Ура Халдейского или исхода евреев из рабства под предводительством Моисея, эти повествования шиты нитками откровенной монотеистической черноты: единственный отец человеческого рода — Адам (моногенизм), а потом Ной, единственный основатель еврейского народа — Авраам, единственный законодатель — Моисей, единственный Бог — Яхве» (op. cit., p. 101).
После смерти Ездры Иудея оказывается в подчинении власти персов. Происходит определенное развитие иудейской религии под влиянием зороастрийского дуализма и множества новых богов. Дуализм Библии оказывается резко подчеркнутым. С одной стороны, в эту эпоху наиболее остро ставится вопрос о зле: Книга Иова, стремящаяся на него ответить, была отредактирована, по-видимому, между 300 и 250 гг. до н. э. С другой стороны, распространяется представление о том, что существуют демоны, злые духи. Более точные очертания придаются еврейской ангелологии и демонологии. Эти демоны вновь возникнут в дораввинистической литературе, а позднее а Аггаде (см.: David Goldstein, Jewish Folklore and Legend, Hamlyn, London, 1980). В Таргуме — арамейском переводе Библии — слова «козел» и «сатир» переведены как shedim , «демоны». В Пирке Авот, моралистическом трактате, включенном в Мишну, среди десяти предметов, созданных накануне первого шаббата , упоминаются mazzikin или «вредоносные духи». (Известно, что дуалистическая концепция оказалась в значительной степени усиленной в христианстве, которое, напротив, проявляло относительно укорененное благочестие по отношению к местным культам).
Единственность Яхве исключает любое сравнение, любое соперничество, притягивая посредством тропизма все стороны человеческой жизни. Признание этой единственности означает признание того, что ничто не может быть сравнено с Яхве или уподоблено ему, а значит ничто не может быть и предметом культа. Иудео-христианское единобожие утверждает себя религию без мифов, то есть как религию, лишённую того, до сего момента определяло религию. (Отсюда, возможно, обвинение в «атеизме», выдвигавшееся римлянами против евреев). Мифы отсылают к миру, они освящают мир. Но мир согласно Библии должен быть десакрализован. Природа более не должна быть «одушевлена»: боги должны перестать в обитать и давать в ней человеку преображённый образ его самого. Иудео-христианскому единобожию более всего противна приглушённая космическая религиозность, приглушённая религиозность вселенной. Именно поэтому Библия с такой строгостью осуждает «природную» магию — ту самую магию, которую, как мы видели, Один использует на последнем этапе основополагающей войны и возрождения которой иудео-христианское единобожие не перестаёт осуждать вплоть до времени процессов над ведьмами наряду с таким множеством «дьявольских» проявлений. [45] «Иудаизм не облагородил идолов — пишет Эммануэль Левинас, — он потребовал их разрушения. Подобно технике, он демистифицировал вселенную» (Difficile libert, op. cit., pp. 302–303), он «расколдовал мир» (ibid., p. 29). Переход от мифа — мифа, который не имеет необходимости сознавать себя как миф, — к логосу, как замечает Жан-Пьер Сиронно, уже представляет собой первую ступень разложения мифа постольку, поскольку он несёт в себе рационализацию и историзацию (…) Именно тогда миф начинает переживаться как выдумка, конечно же, красивая история, но лживая история. Отныне он является не способом познания, а предметом познания» (Retour du my the et jmaginaire socio-politique, inJ.-P. Sironneau, F. Bonardel, P.O. Sansonetti et al., Le retour du mythe, Presses universitaires de Grenoble, 1980, p. 28). Так начинается процесс десакрализации, расколдовывания (Entzauberung) мира, который через несколько столетий, после обмирщения религиозных идеологий, вскормит чистый рационализм, восприятие мира в виде чистого объекта, чистой механики, чистой материи без души и без богов, которую учёные, постепенно умертвят своим анализом, состоящим из сокращений и разделений. Entzauberung не остановился на полпути. С этой точки зрения рационализм «Века просвещения» является не антитезой библейского единобожия, а скорее его светской формой и неизбежным результатом. Как заметил Теодор В. Адорно (Sur la logique des sciences sociales, in T.W. Adorno, Karl R. Popper, Rolf Dahrendorf et al., De Vienne a Francfort. La querelle allemande des sciences sociales, Complexe, Bruxelles, 1979, p. 105), значительная — большая — часть социальных наук последовала по этому пути развития, на котором им предшествовал европейский Aufklaerung. И так вплоть до современных богословов с их намеренным разрывом с христианским волшебством Средних веков — волшебством, в значительной степени вдохновленным язычеством, и с их Entmythologisierung'oм, «демифологизацией», о которой Жан Брен заявил, что она представляет собой всего лишь «фетишизацию буквы, претендующую на извлечение чистого смысла текста» (Les nouveaux paganismes, in Communio, juillet-aout 1980).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
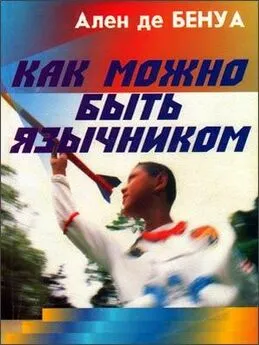




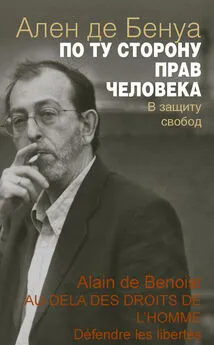


![Пьер Бенуа - Атлантида. Забытый. Прокаженный король. Владелица ливанского замка. Кенигсмарк. Дорога гигантов. Соленое озеро [компиляция]](/books/1088284/per-benua-atlantida-zabytyj-prokazhennyj-korol.webp)